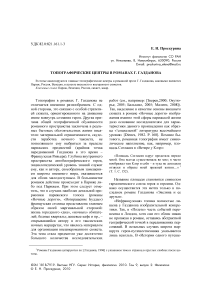Топографические центры в романах Г. Газданова
Автор: Проскурина Елена Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются главные топографические центры в романной прозе Г. Газданова, каковыми являются Париж, Россия, Венеция, в аспекте внешнего и внутреннего сюжетов.
Париж, венеция, Россия, сюжет, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/14737227
IDR: 14737227 | УДК: 82.0:821.161.1-3
Текст научной статьи Топографические центры в романах Г. Газданова
Топография в романах Г. Газданова не отличается внешним разнообразием. С одной стороны, это связано с особой стратегией сюжета, ориентированного на движение извне вовнутрь сознания героя. Другая причина общей географической обуженности романного пространства заключена в реальных бытовых обстоятельствах жизни писателя: материальной ограниченности, скудости заработка ночного таксиста, не позволявшего ему выбраться за пределы парижских предместий (крайняя точка передвижений Газданова в это время – Французская Ривьера). Глубина внутреннего пространства автобиографического героя, энциклопедический уровень знаний служат ему, как и автору, своеобразным замещением широты внешнего мира, оказавшегося для обоих малодоступным. В большинстве романов действие происходит в Париже либо под Парижем. При этом следует отметить, что в случаях наиболее детальной прорисовки парижского топоса (романы «Ночные дороги», «Возвращение Будды») французская столица представлена главным образом своей маргинальной стороной: жизнь городского «дна», «ночных» обитателей; бедные кварталы; дешевые кафе и пр., – открывавшейся автору в его таксистских ночных маршрутах, что явилось материалом для организации внешнероманного сюжета. Эта тема стала предметом уже достаточно большого количества исследовательских работ (см., например: [Зверев,2000; Окутю-рье, 2005; Бальзамо, 2005; Малити, 2008]). Так, выделение в качестве основы внешнего сюжета в романе «Ночные дороги» изображения именно этой сферы парижской жизни дало основание исследователям для характеристики данного произведения как образца «˝социальной˝ литературы высочайшего уровня» [Dienes, 1982. P. 168]. Помимо бытового, романная топография имеет символическое наполнение, как, например, площадь Согласия в «Вечере у Клэр»:
«Площадь Согласия вдруг предстала передо мной. Она всегда существовала во мне; я часто воображал там Клэр и себя – и туда не доходили отзвуки и образы моей прежней жизни…» 1 (Т. 1. С. 152).
Название площади становится символом гармонического союза героя и героини. Однако осуществится эта мечта только в последнем романе Газданова «Эвелина и ее друзья».
«Нефранцузская» топика полностью лишена у Газданова изобразительной конкретики. Так, в «Полете» часть событий перенесена в Лондон, хотя сам его облик никак не прописан в романе, оставаясь абстрактной географической точкой в передвижениях персонажей. В остальных случаях широта маршрута героя-путешественника указывается лишь вскользь. В «Истории одного путеше- ствия» константинопольский, пражский, венский, берлинский периоды жизни Володи Рогачева лишь обозначаются, оставаясь в затекстовом пространстве. Сюжетное действие разыгрывается вокруг временной остановки героя в парижском доме брата.
Парадокс, однако, в том, что в последних трех романах («Пилигримы», «Пробуждение», «Эвелина и ее друзья»), период создания которых отмечен позитивными переменами в материальном положении писателя (в начале 1950-х гг. в Нью-Йорке выходят в английском переводе «Призрак Александра Вольфа» и «Возвращение Будды», в 1952-м там должны выйти «Ночные дороги», и Газ-данов отправляется на переговоры в Америку; в середине 1950-х он, будучи сотрудником радио «Свобода», переезжает в Мюнхен, а в 1960-е гг. начинает ездить в Италию [Орлова, 2003. С. 250–263]), он, тем не менее, остается верен Парижу, где по-прежнему происходят все главные события жизни его героев. Лишь в «Эвелине и ее друзьях» истории друзей Я-повествователя развиваются в амплитуде от Мексики до Рима, хотя сам герой при этом наблюдает их из Парижа либо с Французской Ривьеры. По всей вероятности, другая заграница уже не смогла привиться к душе Газданова в той мере, в какой это было суждено Франции, что отразилось на немобильности героев его последних романов, сохранивших в качестве ведущей стратегию жизни внутрь 2.
Если внешнее пространство в романной прозе писателя центрируется Парижем, то внутреннее – образом оставленной родины. Ключевое место в самоощущении героя его «русских» романов занимает память о российском прошлом, идеализированная в акте воспоминания. Несмотря на различие воспоминаний и благополучный образ жизни за рубежом (исключение составляет, пожалуй, только жизнь героя «Ночных дорог»), он переживает свое настоящее как трагедию утраченного идеала, каковым навсегда оста- лась для него Россия. Любопытно отметить, что порой жизнь на родине была для газда-новского героя гораздо хуже и беднее, чем в изгнании, как в случае с Володей Рогачевым, героем «Истории одного путешествия». И все-таки именно воспоминания о России формируют лирический сюжет романа, который пишет герой на протяжении своего проживания за границей. Не просто ностальгия по прошлому, но постоянное внутреннее пребывание в нем тонирует фон «русских» романов Газданова, что становится основой их сюжета как «сюжета воспоминания» [Аверин, 2003]. Российская «нота» звучит то ближним («Вечер у Клэр», «История одного путешествия», «Ночные дороги», «Призрак Александра Вольфа», «Возвращение Будды»), то дальним эхо («Полет», «Эвелина и ее друзья»). Но нет ни одного случая, где бы она исчезла совершенно. В текстах это отражено во множестве лирических фрагментов, когда либо мелодия, либо окружающий пейзаж, либо случайная встреча неожиданно вызывают в душе героя картины прошлого, заставляя не просто погрузиться в него, а пуститься в раздумья о том, каким образом пришли к нему эти воспоминания и что они значат для его настоящего:
«Найдешь, потеряешь все, потом ищешь хотя бы обманчивого воспоминания (курсив наш. – Е. П. )… и все ждешь, как влюбленный на свидании: давно уже прошел назначенный час, давно наступила ночь, а ее все нет …идет дождь, и рядом с тобой мокнет дерево и памятник со статуей; ночь все дальше и глубже …Все глубже и глубже. Что это мне напоминает? Все глубже и тише – где я уже это видел? Ах, да, – в бочке. …И Володя вспомнил большую, всю черную и зеленую внутри бочку, стоявшую в глубине двора …В черную воду бочки Володя опускал короткую сухую палочку; и сколько он ни держал ее под водой, она все всплывала наверх, как пробка. Но после того как она оставалась в бочке несколько дней и дерево набухало… пущенная с силой вертикально ко дну, она всплывала все медленней и медленней, и наступал, наконец, день, когда она оставалась внизу и не всплывала вовсе» («История одного путешествия». Т. 1. С. 180).
Черная вода бочки ассоциируется в данном эпизоде с водами памяти, все сильнее проникающими во внутреннее пространство героя и не дающими ему вынырнуть из собственного прошлого. «Обманчивые воспо- минания», существуя в одном ряду с реальными фактами биографии, уводят повествование в сторону от прямых автобиографических свидетельств, но удерживают его при этом в рамках мнемоники. Фрагменты такого рода пронизывают повествовательную ткань романов, объединяя их в лирическое единство и связывая общей интонацией вчувствования в мир, где прошлое существует наравне с настоящим, а часто и доминирует над ним, и ключом к нему может оказаться самый неожиданный звук, жест, предмет.
Ностальгический образ России занимает особое место в акустической партитуре романов Газданова. Особенно много таких фрагментов в «Ночных дорогах». Оказывается, в сознании повествователя-эмигранта по прошествии многих лет сохранился не только трафаретный образ родины, «подпитать» который можно было в любом русском ресторане Парижа («Я знал наизусть эти, нередко нелепые и смешные, сочетания слов, невозможные ни в одном сколько-нибудь терпимом стихотворении, эти… разлуки, мечты, очарования, цепи, расставания, цветы, поля, слезы и сожаления; но сквозь эти слова струилась славянская и непобедимая в своей музыкальной убедительности печаль, без которой мир не был бы таким, каким я себе его создал» (Т. 1. С. 645)). Его память хранит детские воспоминания о России как об особом, «славянском» топосе, запечатленном в красках, звуках, запахах, неповторимом колорите дождливых вечеров, свежести зимнего воздуха:
«Посередине громадной комнаты тихо гудела печь, дождь все так же стучал по доскам, и, слушая его однообразный шум и забытый звук капель по дереву, я с необыкновенной ясностью вспомнил дождливые вечера в России, влажные, утопающие в брызжущей тьме поля, поезда, далекий, раскачивающийся в черном воздухе фонарь сцепщика, ночной протяжный гудок паровоза…» (Т. 1. С. 529); «Иногда, раз в несколько лет, среди этого каменного пейзажа бывали вечера и ночи, полные того тревожного весеннего очарования, которые я почти забыл с тех пор, что уехал из России… я входил, не зная как и почему, в иной мир, легкий и стеклянный, где все было звонко и далеко и где я, наконец, дышал этим удивительным весенним воздухом, от полного отсутствия которого я бы, кажется, задохнулся. И в такие дни и вечера я с особенной силой ощущал… что мне трудно дышать, как почти всем нам. В этом европейском воздухе, где не было ни ледяной чистоты зимы, ни бесконечных запахов и звуков северной весны, ни огромных пространств моей родины» (Т. 1. С. 608).
Эти теплые, интимно окрашенные российские этюды контрастируют в романе с «прокурорским» тоном, характерным для изображения Парижа, воспринимаемого нарратором как локус смерти:
«Разница между этими русскими, попавшими сюда, и европейцами вообще, французами в особенности, заключалась в том, что русские существовали в бесформенном и хаотическом, часто меняющемся мире, который они чуть ли не ежедневно строили и создавали, в то время как европейцы жили в мире реальном и действительном, давно установившемся и приобретшем мертвенную и трагическую неподвижность, неподвижность умирания или смерти » (Т. 1. С. 616) (курсив наш. – Е. П. ).
Однако насколько свежим оставался в душе газдановского героя образ оставленной родины, настолько тускнели его иллюзии в отношении внутренней сохранности эмигрантов-россиян. Остановимся лишь на одном примере из романа «Ночные дороги» – сцене беседы двух русских шоферов, Ивана Петровича и Ивана Николаевича, пародирующей ссору гоголевских Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича. Аллюзия на гоголевских героев содержится не только в повторяющихся именах газдановских персонажей, но и в ремарке повествователя, относящейся к Ивану Петровичу, который «один раз вскользь сказал, что считает Гоголя хорошим писателем» (Т. 1. С. 613). В контексте этого замечания бесплодные политические споры двух Иванов приобретают характер «литературного поведения» – как подсознательное копирование гоголевских типов:
«Меня особенно поразили, в начале моего знакомства с Иваном Петровичем и Иваном Николаевичем, то остервенение и та страстность, с которыми они спорили при мне о зависимости между государством и частной собственностью и о возможности правительственного контроля над капиталом.
– Я не могу допустить этого незаконного вмешательства, – говорил Иван Петрович, – никогда, Иван Николаевич, вы слышите, никогда. Если нужно, мы будем защищать наши права с оружием в руках.
– Я как государственно мыслящий человек, – сказал Иван Николаевич, считаю и буду считать, что благо коллектива бесконечно выше и важнее прав индивидуума. Вы захватили Бог знает какими путями колоссальные суммы денег, и вы пользуетесь ими…
– Простите, но я вношу в вашу государственную казну колоссальные налоги, – сказал Иван Петрович…» (Т. 1. С. 615) и т. д. и т. п.
Вероятнее всего, автор «олитературивает» в этом фрагменте собственные наблюдения над подобными «бесплодными» беседами русских эмигрантов, подводя им убийственное резюме в заключении эпизода:
«Они сидели друг против друга, за столиком этого маленького ресторана, после обеда, стоившего каждому из них около восьми франков, оба плохо одетые, в потрепанных пиджаках, в рубашках не первой свежести, в штанах с трагической бахромой внизу, и спорили о государстве, гражданами которого они не состояли, о деньгах, которых они не имели, и о баррикадах, которых они не построили бы» (Т. 1. С. 315–316).
Многочисленные отрывочные эпизоды подобного рода складываются в общую картину дисгармонично-абсурдного существования, становящуюся эмблемой не только эмигрантского, но общеевропейского образа жизни первой половины ХХ в., в котором русская эмиграция еще пытается увидеть себя диаспорой избранных страдальцев («После того что мы потеряли в России, вы понимаете…»). Монологически эта мысль сформулирована в «Ночных дорогах» одним из случайных собеседников Я-повествова-теля, как и он, бывшим россиянином:
«Наша личная жизнь кончена; и вот, дотягивая последние годы, мы не хотим впасть в то состояние, в котором находится современная Европа. Эта Европа, в своих интеллектуальных проявлениях, напоминает мне знаете что? – агонию Мопассана, когда он поедал свои испражнения. И в этом – смысл теперешнего состояния Европы. Не мы ответственны за это. Но пусть нас не упрекают за отсутствие у нас современных интересов: мы предпочитаем сохранить наш иерархический облик и превратиться в живые иероглифы» (Т. 1. С. 577).
Однако в процессе творчества Газданова национальные амбиции русских персонажей в его романах становятся все менее выра- женными, а порой степень их нравственного и социального падения оказывается более проявленной, по сравнению с персонажами-французами. Не приобретя смысловой отчетливости в рамках целого, эта мысль тем не менее возникает на периферии метаро-манного текста за счет дублирования сюжетных ситуаций и ролевых функций персонажей. Так, сравнение образов Ральди («Ночные дороги») и Зины («Возвращение Будды»), двух бывших дам полусвета, а в романном настоящем двух старых нищих проституток, показывает остатки внутреннего достоинства и остроту ума у француженки Ральди и полное отсутствие этих качеств у бывшей россиянки Зины. Также «проигрывает» французскому философу-алкоголику Платону («Ночные дороги») бывший однокашник Я-повествователя, его товарищ по гимназии, а к началу сюжетной истории уголовник и алкоголик Мишка («Возвращение Будды»). Если в период создания «Ночных дорог» у Газданова еще оставалась иллюзия превосходства российских эмигрантов над коренными европейцами, то в последнем «русском» романе изображение крайней степени падения бывших россиян, не компенсированное философскими размышлениями о превосходстве русской ментальности, дает основания полагать, что с течением времени у писателя оставалось все меньше иллюзий по поводу нравственного самосохранения русских за рубежом. Вполне вероятно, что реализация замысла поздних романов-притч не на русском, а на французском материале базируется у Газда-нова на обломках этого разрушившегося в его сознании мифа. Однако реальная картина жизни русской эмиграции не только не затуманила, но, скорее, наоборот, способствовала идеализации образа родины в сознании автора и его автобиографического героя.
Помимо России, внутренним локутив-ным центром выступает в газдановских романах Венеция. Образ этого города-мечты возникает в двух коротких фрагментах его итогового романа «Эвелина и ее друзья», приобретающих в нем характер вставного лирического эссе. Приведем оба отрывка полностью:
«…я пересек лагуну и поселился на Лидо. Опять было море, освещенное солнцем, лошади на соборе Святого Марка, крылатые львы, виллы и дворцы над каналами, и опять, в который раз, я смотрел на этот единственный в мире город, и мне снова казалось, что когда-то, в давние времена, он медленно всплыл со дна моря и остановился навсегда в своем последнем движении: застыл каменный бег линий, образовавших его дома, влилось море в берега каналов, и возник этот незабываемый пейзаж лагуны, – мостов, площадей, колонн и церквей. И без всякого усилия с моей стороны я чувствовал это необычайное артистическое богатство, которому я становился как будто причастным, так, точно я давно, всегда знал, на что способен человеческий гений, так, точно часть моей души была вложена в эти картины, статуи, дворцы, так, точно, падая туда, я переставал быть варваром и ощущал, наконец, все великолепие раз навсегда и безошибочно найденной гармонии, непостижимой для меня ни в каких других обстоятельствах» (Т. 2. С. 656–657);
«Из каких глубин моего сознания возникла во мне эта любовь к Венеции? Почему, когда я первый раз попал в этот город, у меня было впечатление, что я, наконец, вернулся туда, хотя я там никогда до этого не был? У меня не было такого ощущения ни в Генуе, ни в Вероне, ни в Риме, ни во Флоренции, ни в других городах и странах. Мне казалось, что я всегда знал эти повороты каналов, эти площади и мосты, этот незабываемый воздух летних венецианских вечеров, это море, эту лагуну. Это был пейзаж, который поглощал и растворял в себе все, что ему предшествовало в пространстве и времени, в нем тонули все воспоминания о других местах, все города разных стран – громады Нью-Йорка, улицы Парижа, – озера, реки, моря, все, что я знал раньше. И вот, возникая из всего этого в неудержимом движении, освещенная солнцем, окруженная морем, предо мной была Венеция, самое гармоничное из всех моих видений» (Т. 2. С. 661).
В этих лирических зарисовках Венеция предстает антитезой не только газдановско-го Парижа, но и всего мира эмиграции, символом которого стала для писателя французская столица, как поэзия – прозе, мечта – реальности, вечность – времени и пр. В перечисление топографических деталей автору удивительным образом удалось встроить все главные элементы венецианского мифа: рождение города из вод, воплощение женской ипостаси, явление абсолютной красоты, светоносность и др. В целом изображение Венеции в «Эвелине и ее друзьях» вписывается в литературную венециану, в которой образ города переведен «на такую орбиту, где Венеция, независимо от ее физического существования, предстает как не- обходимая духовная субстанция» [Меднис, 1999. С. 16]. Причем ее явленный облик в романе полностью соответствует тому образу «духовной Венеции» [Там же. С. 18], который автор называет «самым гармоничным из всех моих видений». В плане межтекстовых параллелей в локутивной антитезе идеальная Венеция – инфернальный Париж скрыта отсылка к блоковскому поэтическому циклу «Венеция», строкам его третьего стихотворения: «Очнусь ли я в другой отчизне, // Не в этой сумрачной стране?». Взятые писателем в качестве эпиграфа к его рассказу «Воспоминание», эти строчки звучат недальним эхом в лирическом эссе героя «Эвелины…» 3. Если в стихотворении Блока Венеция противопоставлена «сумрачному» Петербургу, то в романе Газданова – ночному Парижу, в изображении которого, однако, довольно часто опознаются литературные черты российской северной столицы. В частности, его характеристика как «зловещего и фантастического города» мгновенно отсылает к традиции «петербургского текста», художественным мирам «Пиковой дамы», «Медного Всадника» Пушкина, «Петербургских повестей» Гоголя, Петербургу Достоевского:
«И, возвращаясь домой на рассвете этого дня, я думал… о том немом и могучем воздушном течении, которое пересекло мой путь сквозь этот зловещий и фантастический Париж – и которое несло с собой нелепые и чуждые мне трагедии… и как бы мне ни пришлось жить и что бы ни сулила судьба, всегда позади меня, как сожженный и мертвый мир, как темные развалины рухнувших зданий, будет стоять неподвижным и безмолвным напоминанием этот чужой город далекой и чужой страны» («Ночные дороги», Т. 1. С. 656).
Хотя, на наш взгляд, здесь мы встречаемся с чисто литературным влиянием. В действительности Петербург в воспоминаниях Газданова является символом России. Это наделяет его образ светлыми коннотациями, в которые встраивается также модус «потерянного рая» – города детства, юности, первой любви, что ментально разделяет миры Петербурга и Парижа и для автора, и для его лирического героя.
Короткое путешествие героя «Эвелины…» в Венецию закрепляет за ней значение города-праздника, тогда как за Парижем остается роль города-судьбы. Вместе с тем сам путь героя в Венецию, в образе которой соединены женское и идеальное начала, субституирует сквозное для газдановского героя «направление к женщине» (М. Горький). Место же России в сознании автора и его героя так и остается непревзойденным.