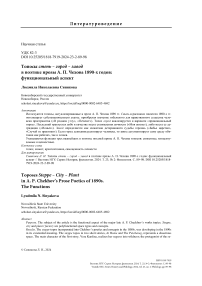Топосы степь - город - завод в поэтике прозы А. П. Чехова 1890-х годов: функциональный аспект
Автор: Синякова Л.Н.
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Исследуются топосы, актуализированные в прозе А. П. Чехова 1890 гг. Степь в рассказах писателя 1890-х гг. потенцирует субстанциональную угрозу, приобретая значение гибельного для нравственного существа человека пространства («В родном углу», «Печенег»). Топос город анализируется в варианте «провинциальный город». Последний трактуется либо в качестве места становления личности («Моя жизнь»), либо места ее деградации («Ионыч»). Завод определяется как сюжетная детерминанта судьбы героинь («Бабье царство», «Случай из практики»). Если город деиндивидуализирует человека, то завод дегуманизирует саму среду обитания как рабочих, так и хозяев.Указываются функции трех важнейших в поэтике поздней прозы А. П. Чехова топосов: сюжетные, концептуальные и ценностные.
Топос, сюжет, архитектоника, самоценность личности
Короткий адрес: https://sciup.org/147243546
IDR: 147243546 | УДК: 82-3 | DOI: 10.25205/1818-7919-2024-23-2-89-98
Текст научной статьи Топосы степь - город - завод в поэтике прозы А. П. Чехова 1890-х годов: функциональный аспект
, https://orcid//org/0000-0002-6485-4692
, https://orcid//org/0000-0002-6485-4692
Термин топос имеет две области применения. Первая принадлежит языку описания нормативной риторики, обозначая общие места: формульные повторы в аргументации, убеждении и ином воздействии на собеседника (аудиторию); общую точку зрения. «твёрдые клише или схемы мысли и выражения» (Э. Р. Курциус) (цит по: [Тамарченко, 2004, с. 95]). Вторая относится к метаязыку пространственных отношений в поэтике художественного текста: «…топосу отводится роль обозначения “языка пространственных отношений”, пронизывающих художественный текст <…>, то есть “места” разворачивания смыслов <…>; локус же соотносится с конкретным пространственным образом, отсылающим к действительности» [Прокофьева, 2005, с. 88]. В настоящей статье исследуются топосы в качестве пространственных образов, обладающих повышенной знаковостью в рамках авторской парадигмы художественности.
Исследуемые в статье топосы являются наиболее частотными в поздней прозе А. П. Чехова как в качестве пространственных образов, так и в качестве сюжетно-мотивных и тематических комплексов 1. Отметим, что топосы степь и город становятся существенным компонентом поэтики зрелого Чехова еще в период творческой перенастройки его художественности («Счастье», 1887; «Степь», 1888; «Огни», 1888; «Скучная история», 1889), в то время как завод появляется в поэтике писателя позднее, в 1890-е гг., частично являясь топосом-дериватом по отношению к городу . Топос город рассматривается в варианте провинциального (губернского или уездного) города. Столичные герои и сюжеты обладают иной персональной и акциональной динамикой: «Рассказ неизвестного человека», 1893; «Три года», 1895) (см., например: [Якимова, 2022, с. 106–120]).
Существенные сдвиги в значении топосов город и степь по сравнению с концом 1880-х гг. наблюдаются только в отношении топоса степь. Если в повестях 1888 г. топос интегрировал значения имперсональной дикости, вольницы и универсума 2, а в «Огнях», кроме того, исторической бездны (500 лет назад здесь жгли костры филистимляне), – то в прозе писателя 1890-х гг. он приобретает единственное значение возврата в дикость, вызывая базовую эмоцию страха или тревоги. Кроме того, степь в чеховской прозе конца 1880-х гг. кон- цептуально воссоздавалась в качестве вечной и неизменной универсалии, а в 1890-е гг. – изначально враждебной по отношению к человеку субстанциональной силы.
Результаты исследования
Смещение интегрального значения топоса степь с понятия простора, ассоциированного с состоянием воли 3, к понятию пространства аккумуляции опасной дикости прослеживается в поэтике двух рассказов Чехова 1897 г.: «В родном углу» и «Печенег». В первом рассказе вернувшаяся из московского института в степную глушь после десятилетней отлучки Вера Кардина поначалу испытывает ностальгическую радость от созерцания степи: она «поддалась обаянию степи, забыла о прошлом и думала только о том, как здесь просторно, как свободно; ей, здоровой, умной, молодой <…> недоставало до сих пор в жизни именно только этого простора и свободы» [Чехов, 1985, т. 9, с. 313] 4; «А на душе покойно, сладко, и, кажется, согласилась бы всю жизнь ехать так и смотреть на степь» (т. 9, с. 313–314).
Жизнь в степном углу однообразна. Степь постепенно начинает восприниматься героиней как амбивалентное пространство, готовое предоставить свободу, но одновременно и способное погубить: «…глядя в даль, думая о своей новой жизни в родном гнезде, она всё хотела понять, что ждет ее. Этот простор, это красивое спокойствие степи говорили ей, что счастье близко и уже, пожалуй, есть <…>. И в то же время нескончаемая равнина, однообразная, без одной живой души, пугала её, и минутами было ясно, что это спокойное зелёное чудовище поглотит ее жизнь, обратит в ничто» (т. 9, с. 316).
Переживание степи как угрозы сопровождается мотивом бытийной скуки: «Она молода, изящна, любит жизнь; <…> выучилась говорить на трех языках, много читала, <…> но неужели всё это только для того, чтобы в конце концов поселиться в степной усадьбе и изо дня в день, от нечего делать, ходить из сада в поле, из поля в сад и потом сидеть дома и слушать, как дышит дедушка. Но что же делать? Куда деваться?» (т. 9, с. 316) 5. Траектория перемещения из сада в поле и из поля в сад воспринимается как метафора остановки жизни: этот путь всегда повторяется, обозначая неизменность, приводя к смысловому эквиваленту неизменности – тщетности существования. «Громадные пространства, длинные зимы, однообразие и скука жизни (курсив мой. – Л. С .) вселяют сознание беспомощности, положение кажется безнадёжным, и ничего не хочется делать, – всё бесполезно» (т. 9, с. 322).
Вера втягивается в «скуку жизни», и лишь эпизод с девочкой-прислугой Аленой, которую она гонит из комнаты теми же словами, что и ее самодур-дедушка («Вон! Розог! Бейте её!»), теперь впавший в старческое слабоумие, а когда-то отличавшийся неукротимой жестокостью, – останавливает ее в этом падении / устремлении в регресс. «Нет, довольно, довольно! <…> Пора прибрать себя к рукам, а то конца не будет… Довольно!» (т. 9, с. 323). Основное сюжетное событие рассказа можно определить как утверждение господства стихии. Степь является катализатором сюжетного действия и ведущим в ценностной архитектонике произведения экзистенциальным концептом, значение которого в концептной системе рассказа определяется как равнодушие природы и утрата смысла жизни в человеческом измерении.
В рассказе «Печенег» степь не индуцирует бытийного конфликта, являясь лишь условием одичания однодворца Жмухина (функция сюжетного обстоятельства). Однако, как и в «Родном углу», степь ценностно «подсвечивает» сюжетную историю. Когда-то проезжий земле- мер уже назвал его печенегом, после чего и хутор получил прозвание Печенегова хутора. Волею случая туда попадает на ночлег частный поверенный. Нигде не учившиеся хозяйские сыновья-подростки, основное развлечение которых – стрельба в кур и петухов и набеги на чужие сады («Того и гляди, зарежут кого на дороге», – сетует отец (т. 9, с. 325)), забитая иссохшая от горя хозяйка хутора, неприглядная история из воспоминаний Жмухина о его службе на Кавказе – всё это заставляет молчаливого гостя признаться, что ему душно (двусмысленность фразы заключается в том, что приближается гроза и он испытывает физическую духоту, но еще более – нравственный дискомфорт). По слову Н. Я. Берковского, «“Печенег” – новелла внутренних контрастов. Вегетарианец попадает в гости к людоеду и должен приспособляться к своему хозяину» [Берковский, 1985, с. 228]. В равной мере это касается переносного значения вегетарианства (а нечаянный гость действительно не употребляет мяса) и людоедства.
Контрастно по отношению к душному жмухинскому дому «с низкими потолками и со множеством мух и ос», с грубой мебелью, выглядит предгрозовая степь: «Направо далеко видна была степь, над нею тихо горят звёзды – и всё таинственно, бесконечно далеко, точно смотришь в глубокую пропасть; а налево над степью навалились одна на другую тяжелые грозовые тучи, <…> края их освещены луной, и кажется, что там горы с белым снегом на вершинах, темные леса, море <…>» (т. 9, с. 332). Безбрежность степи распространяется как в пространственной горизонтали – вплоть до линии горизонта, где тучи, висящие над степью, представляются горами, лесами и морем, т. е. протяженностью земли, – так и в вертикали «земля – небо», причем небо оборачивается пропастью и будто бы опрокинуто ниже уровня земли, а вся степь воспроизводит модель мирового древа – центра вселенной (см. [Мифы народов мира, 2008, с. 161–164]). Степь снова, как и в предыдущем рассказе, обозначена в качестве смыслообразующего ядра в ценностной выстроенности рассказа. Действительно, степь в восприятии частного поверенного совершенна, являя пространственное единство неба и земли; в восприятии Печенега она деструктивна и метафизична, обозначая неизменность зла как мирового закона и побуждая к вседозволенности.
Собравшийся умирать старик Жмухин одолеваем раздумьями о жизни, которые так или иначе сводятся к суждению о врожденном зле в человеческой природе: «Теперь, конечно, уж не та категория людей, и не секут, и живут чище, и наук стало больше, но, знаете ли, душа всё та же, никакой перемены» (т. 9, с. 330). Жена Жмухина, поповна-бесприданница, все двадцать лет пребывания в его доме не осушает слез, и «было видно по ее лицу, что она завидует… свободе» частного поверенного, собравшегося покинуть усадьбу. Психологическая точка зрения персонажа замещается идеологической точкой зрения автора – фокус видения персонажа смыкается с авторской оценкой: «И какая жалкая! Это не жена, не хозяйка, даже не прислуга, а скорее приживалка, бедная, никому не нужная родственница, ничтожество…» (т. 9, с. 333).
Степь является одним из факторов деградации Жмухина, однако главная причина последней заключается в неразвитости и грубости натуры хозяина усадьбы. Помимо каузальной функции универсалия степи в рассказе – обстоятельственная: это обстановка и место сюжетного действия. Заметим, что мировосприятие Жмухина искажено ничем не ограниченной свободой – вольницей, субстанционально присущей универсалии степи и проявляющейся, в том числе, в стихии хаоса и разбоя 6. Степь становится пространством не просто враждебным культуре – гармонии – порядку, но и потенцирующим духовное небытие.
Топос город (в его разновидности – провинциальный город) становится ведущим образом-символом (и в качестве локуса, и в качестве смыслового целого) в повестях «Моя жизнь» (1896) и «Ионыч» (1898). Город определяется как место подавления воли человека и его унификации. Базовая эмоция главных персонажей – разочарование и тоска: «…мною мало- помалу овладела тоска – тоска физическая, когда чувствуешь свои руки, ноги и всё свое большое тело и не знаешь, что с ними делать, куда деваться» (т. 9, с. 208); «От праздности и неопределенности положения меня тяготила физическая тоска <…>» (т. 9, с. 214) («Моя жизнь»); «И жаль было своего чувства, этой своей любви, так жаль, что, кажется, взял бы и зарыдал <…>» (т. 10, с. 34) («Ионыч»).
В повести «Моя жизнь» Мисаил Полознев является чужим в городе, к высшему слою которого он принадлежит по праву рождения. Его намерение заняться рабочей профессией встречает сопротивление и отца, и городского общества. Отец испытывал «тайный страх, что я поступлю в рабочие и заставлю говорить о себе весь город» (т. 9, с. 194). В первой главе повести заявлена ведущая для обывательского сознания формула «общественное положение», определяющая тематический мотив повести о социальном неравенстве: «К тому же в городе у меня была дурная репутация оттого, что я не имел общественного положения и часто играл в дешёвых трактирах на бильярде <…>» (т. 9, с. 197).
Облик города, застроенного Полозовым-старшим, единственным архитектором в округе, безлик и мрачен. По отзыву Мисаила, его отец – это «бездарный человек», не построивший за 20 лет своей деятельности «ни одного порядочного дома»: «У фасада упрямое, чёрствое выражение, линии сухие, робкие, крыша низкая <…> все эти выстроенные отцом дома, похожие друг на друга, смутно напоминали мне его цилиндр, его затылок, сухой и упрямый», а «бездарность отца» «укоренилась и стала нашим стилем» (т. 9, с. 198).
Город воспринимается героем как губительное пространство, оттого что жизнь в нем бессмысленна: «Я любил свой родной город. Он мне казался таким красивым и теплым! <…> но люди, с которыми я жил в этом городе, были мне скучны, чужды и порой даже гадки. Я не любил и не понимал их. Я не пронимал, для чего живут все эти шестьдесят пять тысяч людей. <…> И как жили эти люди, стыдно сказать! Ни сада, ни театра, ни порядочного оркестра <…> Ели невкусно, пили нездоровую воду. <…> я не понимал этого <…>» (т. 9, с. 205).
Два отверженных существа, Мисаил и его сестра Клеопатра, ощущают исходящую от города угрозу: «В одних домах уже спали, в других играли в карты; мы ненавидели эти дома, боялись их и говорили об изуверстве, сердечной грубости, ничтожестве этих почтенных семейств, этих любителей драматического искусства, <…> и я спрашивал, чем же эти глупые, жестокие, ленивые, нечестные люди лучше пьяных и суеверных куриловских мужиков или чем они лучше животных, которые тоже приходят в смятение, когда какая-нибудь случайность нарушает однообразие их жизни, ограниченной инстинктами» (т. 9, с. 268–269).
В повести реализуется сюжетная ситуация ухода, причем герой-рассказчик не покидает города и его окрестностей физически, – духовно отрёкшись от него: «Если бы у меня была охота заказать себе кольцо, то я выбрал бы надпись: “Ничто не проходит”. Я верю, что ничто не проходит бесследно и что каждый малейший шаг наш имеет значение для настоящей и будущей жизни» (т. 9, с. 279).
Регулятивная функция топоса город заключается в аннигиляции творческого мировосприятия и деиндивидуализации человека. Полознев ментально остается вне города и сохраняет личностную цельность, Старцев («Ионыч», 1898) «растворяется» в городе, мимикрирует под него и теряет себя.
Город С. традиционно для провинции скучен и лишен подлинной культуры. «Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однообразие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напротив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомство» (т. 10, с. 24). Спустя несколько лет раздосадованный возобновлением знакомства с Туркиными герой недоумевает: «...глядя на темный дом и сад, которые ему были так милы и дороги когда-то, он вспомнил всё сразу - и романы Веры Иосифовны, и шумную игру Котика, и остроумие Ивана Петровича, и трагическую позу Павы, и подумал, что если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город» (т. 10, с. 39). Почти утративший способность восторгаться природой, заменивший театр и концерты ежевечерней игрой в винт, привыкший считать полученные за день бумажки, Ионыч, однако, не чужд «гуманитета», совершенно непонятного обитателям города С. Его попытки обсудить социальное будущее человечества или потребность труда для человека как существа разумного вызывали в собеседниках настороженность.
Даже превратившийся в подобие «языческого бога» (т. 10, с. 40) Дмитрий Ионыч дистанцирован от городских жителей: «Обыватели своими разговорами, взглядами на жизнь и даже своим видом раздражали его. Опыт научил его мало-помалу, что пока с обывателем играешь в карты или закусываешь с ним, то это мирный, благодушный и даже не глупый человек, но стоит заговорить с ним о чем-нибудь несъедобном, например, о политике или науке, как он становится в тупик или заводит такую философию, тупую и злую, что остаётся только рукой махнуть и отойти» (т. 10, с. 35).
В результате символизации города как места неживого, подавляющего искренние проявления человеческой натуры, лишенного коллективного чувства сострадания, топос выполняет функции катализатора сюжетного действия и мотивировки внутреннего отчуждения персонажа, становясь смыслообразующим фактором поэтики произведения. В архитектонике художественного целого топос город является одним из компонентов этической картины -местом «флуктуации» ложных, подменных ценностей.
При совпадении сюжетных функций топоса и его ценностного значения в обеих повестях наблюдается различие в персональных сюжетах действующих лиц. Оно в немалой степени объясняется адаптацией и героя к городу, и города к герою: город принимает или не принимает его, и, кроме того, объясняется разницей позиций персонажей . Полознев следует своему убеждению и внешнему служению (так или иначе наследуя народникам 1870-х гг.), Старцев не имеет ни жизненной цели, ни высших идей, являясь «обыкновенным человеком», а в конце концов - таким же обывателем города С., как и остальные персонажи повести.
Наконец, топос завод появляется в поэтике Чехова именно в 1890-е гг., что объясняется, в том числе, и бурной индустриализацией России в последнее десятилетие века - явление, радикализовавшее общественное умонастроение и изменившее соотношение социальных сил в стране. В прозе Чехова до 1880-х гг. действующие лица - мещане, достаточно неоднородная в социальном и мировоззренческом плане интеллигенция, наконец, мелкое дворянство; в его прозе 1890-х гг. появляется человек рабочей профессии и фабрикант.
Завод можно считать производной концептуально-образной единицей топоса город , но не в обычном для писателя значении «провинциальный город» как место, вне живой жизни находящееся, а в значении, предполагаемом актуальной на исходе века урбанистической тематикой и мотивикой, - когда завод или фабрика вытесняют за свои пределы человека как такового (наиболее эта дегуманизирующая семантика проявляется в рассказе «Случай из практики»).
Топос становится ведущим в топологической структуре повести «Бабье царство» (1894), рассказа «Случай из практики» (1898) и периферийным в повести «В овраге» (1900) (поэтому не включенной в материал настоящей статьи).
В повести «Бабье царство» Анна Акимовна, волею случая оказавшаяся наследницей миллионного дела и владелицей огромного сталелитейного завода, чувствует себя несчастной от доставшейся ей роли вершительницы судеб рабочих. Втайне она мечтает вернуться в детство, в тесную рабочую каморку, где она обитала с родителями, слушать шум барачной жизни, а не скрежет железа на производстве: «И ей захотелось стирать, гладить, бегать в лавку и кабак, как это она делала каждый день, когда жила с матерью. Ей бы рабочей быть, а не хозяйкой!» (т. 8, с. 261). Утрата собственной идентичности вызвана сменой социальной роли героини, в частности ее зависимостью от живущего самостоятельной жизнью завода.
Заводские цеха представляются хозяйке механизированной преисподней: «Этих темных, угрюмых корпусов, складов и бараков <…> Анна Акимовна не любила и боялась. <…> Высокие потолки с железными балками, множество громадных, быстро вертящихся колес, приводных ремней и рычагов, пронзительное шипение, визг стали, дребезжанье вагонеток, жесткое дыхание пара, бледные или багровые или черные от угольной пыли лица, <…> блеск стали, меди и огня, запах масла и угля <…> произвели на нее впечатление ада (курсив мой . – Л. С. ). Ей казалось, будто колеса, рычаги и горячие шипящие цилиндры стараются сорваться со своих связей, чтобы уничтожить людей, а люди, с озабоченными лицами, не слыша друг друга, бегают и суетятся около машин, стараясь остановить их страшное движение» (т. 8, с. 260). Сенсорный образ заводского ада аудиален: визг станков, грохот листового железа; шипящие брызги расплавленного металла будто угрожают хозяйке: «…станок ревел и визжал и свистел, а Анну Акимовну тошнило от этого шума, и казалось, что у нее сверлят в ушах» (т. 8, с. 260–261).
Отторжение опасного места вызывает в хозяйке завода стыд за тех, кто в нем проводит жизнь: «Она глядела, слушала, не понимала <…> и ей было стыдно. Кормиться и получать сотни тысяч от дела, которого не понимаешь и не можешь любить, – как это странно!» (т. 8, с. 261).
Недовольство собой вызвано тем, что чуждое дело формирует ложную, подменную судьбу. В конце повести разочарованная очередным обманувшим ее предпраздничные надежды (например, на брак с рабочим Пименовым) Рождеством героиня рыдает «от стыда и скуки»: «Она решила, что у нее в жизни ничего уже больше не осталось, кроме этого Чаликова (пьяницы-просителя. – Л. С .), что он уже не перестанет преследовать ее и напоминать ей каждый день, как неинтересна и нелепа ее жизнь. <…> Досаднее и глупее всего казалось ей то, что сегодняшние мечты насчёт Пименова были честны, возвышенны, благородны, но в то же время она чувствовала, что Лысевич и даже Крылин (представители местного бомонда. – Л. С .) для нее были ближе, чем Пименов и все рабочие, взятые вместе. <…> И она думала также, что ей уже поздно мечтать о счастье, что всё уже для нее погибло и вернуться к той жизни (в рабочем бараке. – Л. С .) <…> или выдумать какую-нибудь новую, особенную жизнь уже невозможно» (т. 8, с. 296). Базовые эмоции в психологическом существе героини – беспокойство и страх, вызванные ощущением «не своего места».
В повести завод «поглощает» не только жизни рабочих, но и жизнь его владелицы, провоцируя у нее состояние экзистенциальной скуки и психологическую раздвоенность, и можно констатировать функцию топоса завод – сюжетной детерминанты судьбы персонажа.
В рассказе «Случай из практики» положение наследницы фабрики вызывает у героини не только психологический разлад, но и необъяснимую немочь. Доктор Королев, призванный лечить занемогшую дочь фабрикантши Ляликовой, убеждается в том, что причина ее угасания кроется в подчиненности судьбе, а судьба определяется зависимостью от принадлежащей ей ткацкой мануфактуры. «Хорошо чувствует себя здесь только гувернантка, и фабрика работает для ее удовольствия. Но это так кажется, она здесь только подставное лицо. Главный же, для кого здесь всё делается, – это дьявол» (т. 10, с. 81).
Метафора дьявола объясняет не только социальное неравенство или биосоциальный закон подчинения слабого сильному, но и отчужденный от человека, изначально враждебный ему порядок существования: «Ему казалось, что этими багровыми глазами (светящимися окнами фабрики. – Л. С.) смотрел на него сам дьявол, та неведомая сила, которая создала отношения между сильными и слабыми, эту грубую ошибку, которую теперь ничем не исправишь. Нужно, чтобы сильный мешал жить слабому, таков закон природы, но это понятно и легко укладывается в мысль только в газетной статье или учебнике, в той же каше, какую представляет из себя обыденная жизнь, в путанице всех мелочей, из которых сотканы человеческие отно- шения, это уже не закон, а логическая несообразность, когда и сильный, и слабый одинаково падают жертвой своих взаимных отношений, невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку» (т. 10, с. 81–82). Фабрика как овеществление «посторонней человеку» силы способна погубить любого, находящегося в зависимости от нее, – и хозяев, и рабочих. Это лиминальный локус – место, находящееся между жизнью и смертью и медиаторное между людьми и дьяволом, и оттого человек здесь обречен.
Поэтому доктор Королев убеждает Лизу покинуть гиблое место: «…для него было ясно, что ей нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама <…>» (т. 10, с. 84). Только освободившись от «идеи» фабрики, Лиза сохранит свою личностную цельность, а ее задумавшееся поколение выберет живую жизнь: «мы… наше поколение <…> много говорим и всё решаем, правы мы или нет», а следующее поколение выберет правильный путь и сделает жизнь лучше (т. 10, с. 84–85). «Хорошая жизнь будет лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть» – напутствие доктора Лизе является выводом автора (т. 10, с. 85).
Исследуемый топос, как и в повести «Бабье царство», является сюжетной детерминантой несчастья героини, однако в «Случае из практики» возникает перспектива ухода, и, следовательно, сюжетная структура рассказа в определенной степени симметрична. Как элемент смыслообразования в поэтике произведения топос завод ( фабрика ) в прозе Чехова 1890-х гг. приобретает коннотации гибели и подавления воли к жизни.
Заключение
В целом, топосы степь – город – завод в поэтике поздней прозы А. П. Чехова имеют негативное значение примата общего над частным. В топосе степь общее выражает губительную для человека власть безразличной природы. Город и его топологическое производное завод стирают индивидуальность и устраняют личную волю человека, осуществляя господство общественного мнения или социальной роли над личностью.
Ведущие персонажи либо отстаивают свою личностную самостоятельность («Моя жизнь», «Случай из практики»), либо предпочитают латентное сопротивление обстоятельствам (финал рассказа «В родном углу»), либо смиряются с текущим порядком жизни («Бабье царство»). Полное или почти полное растворение в среде, формируемой топикой степь или город , оборачивается деградацией персонажа («Печенег», «Ионыч»).
Помимо сюжетной функции – места и катализатора действия, исследуемые топосы становятся важным компонентом этического мирообраза в поэтике А. П. Чехова 1890-х гг. С этим связана их архитектоническая роль: аккумулируя смыслы гибели и подавления воли к жизни, топосы степь – город – завод ценностно полярны по отношению к универсалии живой жизни. Последняя утверждает неоспоримое превосходство самостояния и личностной цельности человека.
Список литературы Топосы степь - город - завод в поэтике прозы А. П. Чехова 1890-х годов: функциональный аспект
- Берковский Н. Я. О русской литературе. Л.: Худож. лит., 1985. 383 с.
- Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: АСТ: Астрель: Тран-зиткнига, 2006. Т. 1. 1158 с.
- Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: В 2 т. М.: Рус. яз., 2000. URL: https://lexicography.online/explanatory/efremova/ (дата обращения 15.08.2023).
- Прокофьева В. Ю. Категория «пространство» в художественном преломлении: локусы и топосы // Вестник ОГУ. 2005. № 11. С. 87–94.
- Разумова Н. Е. Творчество А. П. Чехова в аспекте пространства. Томск: Изд-во ТГУ, 2001. 552 с.
- Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской литературной характерологии. М.: Издательство Кулагиной – Intrada, 2010. 332 с.
- Синякова Л. Н. Топос ДОМ в прозе А. П. Чехова 1890-х гг. и ассоциированные с ним мотивы: смирение – бегство – уход // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 9. С. 102–113. DOI 10.25205/1818-7919-2020-19-9-102-113
- Синякова Л. Н. Топика «дом – антидом» в прозе А. Чехова 1890-х гг. // Утопический дискурс в русской культуре конца XIX – XXI века: литература, живопись, кинематограф: Коллект. моногр. / Науч. ред. Н. В. Ковтун. М.: ФЛИНТА, 2021. С. 15–27.
- Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: хрестоматия-практикум. М.: Академия, 2004. 400 с.
- Мифы народов мира: В 2 т. М.: Большая Российская энциклопедия; Дрофа, 2008. Т. 2. 719 с.
- Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения: В 18 т. М.: Наука, 1986. Т. 8. 527 с.; 1985. Т. 9. 543 с.; 1986. Т. 10. 495 с.
- Якимова Л. П. Поэтика русской литературы в семиологическом освещении. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2022. 298 с.