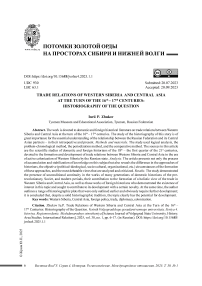Торговые отношения Западной Сибири и Средней Азии на рубеже XVI–XVII вв.: историография вопроса
Автор: Жуков Ю.П.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Потомки Золотой Орды на просторах Сибири и Нижней Волги
Статья в выпуске: 1 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Работа посвящена отечественной и зарубежной исторической литературе о торговых отношениях между Западной Сибирью и Средней Азией на рубеже XVI-XVII веков. Изучение историографии данного сюжета имеет большое значение для сущностного понимания взаимоотношений Российской Федерации с ее центральноазиатскими партнерами - в их ретроспективе и современности. В исследовании использовались логический анализ, проблемно-хронологический метод, метод периодизации, компаративистский метод. Источниками в данной статье выступают научные исследования отечественных и зарубежных историков XVIII - первой четверти XXI в., посвященные вопросу о складывании и развитии торговых отношений между Западной Сибирью и Средней Азией в эпоху активной колонизации Западной Сибири Русским государством. В статье представлен не только процесс накопления и стабилизации знаний по данному сюжету, но также выявлена разница подходов историков, объективные (политико-идеологические, социокультурные, организационные и др.) обстоятельства формирования данных подходов; анализу и критике подвергнуты наиболее дискуссионные взгляды. Исследование продемонстрировало наличие безусловной преемственности в работах многих поколений отечественных историков дореволюционного, советского и современного периодов, их вклад в формирование целостного представления о торговле Западной Сибири и Средней Азии, а также те работы зарубежных историков, которые отражали существование интереса к данной теме и стремились внести в ее разработку определенную новизну. В то же время автором намечен спектр историографических сюжетов, только намеченных ранее и очевидно требующих дальнейшей разработки, сделан вывод, что, несмотря на солидную историографическую традицию, тема явно имеет потенциал развития.
Западная сибирь, средняя азия, внешняя политика, торговля, дипломатия, колонизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149147908
IDR: 149147908 | УДК: 930 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.1.1
Текст научной статьи Торговые отношения Западной Сибири и Средней Азии на рубеже XVI–XVII вв.: историография вопроса
DOI:
Цитирование. Жуков Ю. П. Торговые отношения Западной Сибири и Средней Азии на рубеже XVI– XVII вв.: историография вопроса // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 1. – С. 6–17. – DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.1.1
Введение . Торговые связи России с государствами и народами Средней Азии являются логическим продолжением истории ее освобождения от монгольского владычества, контактов с государствами – наследниками Золотой Орды и реализации политики расширения Российского государства на Восток (в направлении Поволжья, Урала и Сибири), вектор которой закладывался со времен Ивана Великого.
На рубеже XVI–XVII вв. этот процесс не только активно продолжался, но и выходил на качественно иной уровень. Именно в этот период роль государства в освоении края возрастает и становится определяющей, а развитие торговых отношений с соседями постепенно трансформируется из тактической задачи (снабжение переселенцев) в стратеги- ческую (формирование развитой системы торговых коммуникаций, утверждение России в качестве важного экономического актора и ее встраивание в торговый мир Востока).
Целью данной статьи является анализ процесса накопления знаний о торговых отношениях между Западной Сибирью и Средней Азией, что подразумевает решение следующих задач: выделить основные историко-научные концепции, создаваемые исследователями при изучении данного процесса; сформулировать основную проблематику историографических источников и показать влияние конкретно-исторической обстановки на появление новых исследовательских проблем; выработать периодизацию изучения темы и определить характерные для каждого периода закономерности.
Актуальность изучения данной темы обусловлена обширным дискурсом: оба региона прошли долгий путь от первых контактов до пребывания в статусе «внутренних колоний» единой империи, в качестве республик одного Союза, в качестве союзных суверенных республик, объединенных различными международными форматами. На всех этих этапах историографические нарративы трансформировались. Важность темы очевидна и в контексте геополитической обстановки, где отношения на евро-атлантическом контуре переживают один из глубочайших кризисов в истории, а азиатско-тихоокеанские ареалы – от Ближнего до Дальнего Востока – видятся стратегическими партнерами исключительной важности, история и смыслы отношений с которыми формируют повестку дня.
Методы и материалы . Ключевыми источниками для нас являются историографические, включающие в себя литературу по исследуемой теме.
Автором использовались различные методы исследования. Проблемно-хронологический метод способствовал определению проблематики историографических источников и дал возможность обратиться к анализу порядка появления историографических сюжетов. Метод периодизации позволил нам выявить общие черты исторических исследований в тот или иной период времени. Компаративистский метод предоставил возможность сопоставить информацию, извлеченную из различных источников.
Историография исследуемой темы, с одной стороны, достаточно обширна, если относить к ней труды по истории Сибири, внешней политики России того времени и истории торговых отношений России и Средней Азии; с другой – откровенно недостаточна, если брать исследования по интересующей нас проблематике максимально конкретного характера – с единством времени (рубеж XVI– XVII вв.), действия (торговые и сопутствующие им операции) и места (Западная Сибирь и Средняя Азия).
Анализ. Разработка темы стартует вместе со становлением профессиональной исторической науки. В самом лаконичном виде ее касается Герхард Фридрих Миллер [24]. Немецкий ученый первым отметил стремление ханов наладить торговлю узбекских купцов с Россией через Сибирь.
Попадание в орбиту имперского влияния казахских жузов закономерно повышает интерес российских историков к среднеазиатскому направлению внешней политики Российской империи. Отражением данной тенденции становится выход в 80-х гг. XVIII в. работы служащего коммерц-коллегии М.Д. Чулкова [36], посвященной российской торговле, с кратким обзором российско-среднеазиатских торговых сношений в соответствующем томе. C М.Д. Чулкова стартует явление, которое позже получит название «практическое востоковедение».
Дальнейший виток интереса к теме связан с постепенным колониальным подчинением Средней Азии с середины до конца XIX столетия. С этого времени русская ориенталистика выходит на качественно иной уровень, а тема Востока в самом широком его понимании становится востребованной и популярной. В контексте среднеазиатского направления особо следует выделить миссии графа Н.П. Игнатьева в Хиву и Бухару, Н.Г. Столетова в Бухару и многие другие; в Санкт-Петербурге проводится III Всемирный конгресс ориенталистов, где «широко фигурировали вопросы… изучения Средней Азии» [22, с. 52–53], в том числе в свете ее исторических и торговых связей с Сибирью [25].
Большое значение коммерческого взаимодействия двух регионов во второй половине XIX в. отмечает Н.И. Костомаров. Историк, впервые для исследования темы обращающийся к «Актам историческим, собранным и изданным Археографическою комиссией», отмечает, что торговля с купцами из Средней Азии была «очень важна». Они «снабжали Сибирь рукодельными потребностями жизни» [19, с. 42–43], то есть впервые достаточно ясно выражает мысль о взаимной заинтересованности сторон.
Современник Н.И. Костомарова В.В. Григорьев сужает трактовку сибирско-среднеазиатских торговых отношений до формулы: «...государям московским оставалось по отношению к этой части Азии… заботиться об ограждении торговых интересов своих подданных…» [7, с. 6–7].
К концу 1870-х гг. издается труд генерал-майора и военного историка А.А. Шепе- лева, который рассматривает развитие торговых отношений в контексте возрастания «славы и могущества русского государства» [39, с. 5] с присоединением Сибири, что послужило стимулом к многочисленным посольствам со стороны среднеазиатских ханств «с грамотами… о покровительстве своим торговым людям» [39, с. 5]. Вслед за Н.И. Костомаровым историк ключевой интерес Москвы видит в том, чтобы «разведать» пути в Индию.
Ближе к концу века В.А. Уляницкий [33] впервые концептуально обозначил причины заинтересованности Москвы в развитии отношений со Средней Азией в виде стремления создать «великий» торговый путь из Средней Азии в Европу, проходящий через Россию. Впрочем, по его мнению, цель эта не была удовлетворена.
Не изменился тон исследований и в начале XX века. Труд Ф.И. Лобысевича [21] выступал откровенно вторичным по отношению к работам А.А. Шепелева и В.В. Григорьева и проводил мысль о том, что центральная власть в деле освоения Сибири «не принимала… прямого участия, а предоставляла его самим пограничным воеводам» [21, с. 11]; работа С.В. Жу-ковского[8] в большей степени носила апологетический (по отношению к дому Романовых), а не исследовательский характер.
Советская эпоха поставила перед исторической наукой вообще и историческим востоковедением в частности принципиально иные задачи. Советизация Средней Азии в начале 1920-х гг., создание СССР меняют исследовательскую оптику и словарь – теперь изучается не «внешняя политика России в Средней Азии», а – подчеркнуто – взаимоотношения регионов; профессиональные историки занялись формированием дискурсов, объясняющих близость народов и их исторически неизбежное воссоединение в рамках нового государственного образования. Происходит принципиальный отказ от имперских нарративов. Методология определяется «подлинно научным» марксистским подходом и его институциональными проводниками: Всероссийской научной ассоциацией востоковедов, Московским институтом востоковедения (оба образованы в 1921 г.), Научно-исследовательской ассоциацией при Коммунистическом университете трудящихся Востока (1927) и др.
В начале 1930-х гг. к исследованию вопроса приступает А.П. Чулошников [37]. Историк впервые отчетливо разграничил три формы сибирско-среднеазиатских торговых отношений: 1) царско-ханские через особо уполномоченных доверенных лиц, гостей, купчин и послов; 2) «поминки» в составе посольских даров; 3) свободный частный купеческий товарообмен. Исследователь привел ассортиментный ряд сибирско-азиатского товарооборота и перечень «заповедных товаров»; обозначил ключевые торговые маршруты через казахские степи на Тару, Тюмень и Тобольск, четкую привязку «тезиков» (среднеазиатских купеческих караванов) к маршрутам посольств (причем выдвинул на основе анализа описи царского архива гипотезу о возможности исследования русскими купцами этих маршрутов еще в XV в.). Ученый отмечал самую активную роль русских купцов в торговле со Средней Азией, представил новый взгляд на причины их заинтересованности в укреплении взаимоотношений с ханствами, основанной на общности интереса в безопасности караванных путей.
Еще одним знаковым историографическим явлением 1930-х гг. становится выход трудов С.В. Бахрушина [3], отказавшегося от концепции «завоевания» Сибири в пользу ее комплексного освоения со стороны Русского государства. Историк впервые системно исследует роль в развитии сибирско-среднеазиатских торговых отношений администрации различных уровней – от правительственного до воеводского. Ученый отмечал, что «вследствие колониального характера ее хозяйства Сибирь не имела собственной промышленности, потребляла исключительно привозную мануфактуру…» [3, с. 204]. Привлекаемый (зачастую впервые) С.В. Бахрушиным актово-статистический материал – таможенные записи, городовые списки, сметные, дозорные и переписные книги, документы церковного учета – позволил ему сделать вывод об активизации процесса оседания бухарцев в сибирских городах в конце XVI – XVII в. и разворачивания ими там постоянной торговой деятельности (взгляды С.В. Бахрушина в те же годы поддержал и развил П.П. Иванов [12]).
Работы этого дуумвирата авторов стали классикой еще при их жизни и задали тон всем последующим исследованиям советского (а во многом и постсоветского) времени.
Важной историографической вехой середины – второй половины XX столетия становится выход ряда общих трудов по истории среднеазиатских республик, ставших плодом совместных усилий российских, узбекских, таджикских, туркменских, киргизских, казахских ученых [13–18; 26]. Эти коллективные труды, с одной стороны, суммировали накопленные на тот момент в досоветской и советской исторической науке сведения о складывании сибирско-среднеазиатских отношений, с другой – не посвящали этому вопросу слишком много места.
Параллельно происходят знаковые события в структуре советского востоковедения. При Академии наук СССР создается Издательство восточной литературы. Возрождение контактов с международным сообществом в эпоху оттепели находит отражение сначала в участии советской делегации во Всемирных конгрессах востоковедов в Кембридже и Берлине, а затем и в проведении XXV Всемирного конгресса востоковедов в Москве в 1960 г. (спустя 84 года с момента последнего такого мероприятия в России). Все это придает изучению темы весьма ощутимые импульсы.
В 60-е гг. ХХ в. узбекский историк М. Юлдашев [41], во-первых, достаточно смело заявлял, что «торговые и посольские связи Средней Азии с Россией в XVI–XVII вв. были более постоянными, чем это представлялось некоторым дореволюционным исследователям»[41, с. 85]; во-вторых, продемонстрировал свежий подход к трактовке развития сибирско-среднеазиатских контактов через описание причин заинтересованности ханств в сибирских рынках – она стала плодом «известной изоляции Средней Азии от рынков переднеазиатских стран и ограничения торговых связей среднеазиатских ханств с Китаем» [41, с. 85].
Его коллега и соотечественник Х. Зияев [9–11], почти все свое научное творчество посвятивший экономическим связям Сибири и Средней Азии, введя в оборот детальное исследование таможенных книг, утверждал, что южное направление торговых связей Сибири со среднеазиатскими соседями играло приоритетную роль по сравнению с контактами с европейской частью России. Это взаимодей- ствие удовлетворяло повседневные потребности населения всех народов-участников, способствовало развитию ремесла и торговли в обоих регионах, налаживало торговые контакты с более удаленными Китаем и Индией, способствовало формированию в Сибири и Средней Азии социальных «кругов», заинтересованных в поддержании и развитии этих отношений.
Тогда же к изучению сибирско-среднеазиатских взаимоотношений приступил О.Н. Вилков [5; 6], посвятивший этой теме множество работ (а в конце 1980-х гг. выступивший редактором академического издания «Торговля городов Сибири конца XVI – начала XX века»[32]). Историк подчеркивал, что московское правительство прямо участвовало в становлении и развитии торговых связей со среднеазиатскими ханствами. Приезжие и «юртовские» бухарцы сразу получили доминирующую роль в посреднической торговле России с Востоком. О.Н. Вилков самым подробным образом исследовал логистику бухарской торговли и ее ассортиментное наполнение, значительно дополнив наблюдения А.П. Чулошникова и С.В. Бахрушина. Вслед за последним ученый приходил к выводу, что «торговые операции приезжих и сибирских бухарцев по реализации своих товаров… в Сибири способствовали сложению сибирского рынка в орбите формировавшегося всероссийского» [5, с. 223].
В 1972 г. в сборнике статей «Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе» Н.Г. Аполлова осуществляет попытку связать успехи развития торговли между Сибирью и Средней Азией с развитием российско-европейской торговли, миграционными процессами в Евразии. Ей удалось проанализировать динамику торговли, выделяя периоды снижения и повышения ее интенсивности и объемов (в товарном и денежном выражении). Специфической чертой исследуемых торговых отношений, по ее мнению, являлось то, что «торговля по преимуществу была ханская и царская», осуществляемая в основном именитыми иноземными «купчинами» и русскими «гостями», а также представителями дипломатических миссий[1, с. 333], имевшими целый ряд преимуществ и льгот перед частными торговцами.
В конце 1970-х гг. защищается кандидатская диссертация, а в 1981 г. на ее основе выходит монография Д.Ю. Арапова «Бухарское ханство в русской востоковедческой историогра-фии»[2] – фактически первый историографический труд на исследуемую нами тему, к сожалению затрагивающий только досоветский период. То же можно сказать и о работе О.Б. Бокиева [4] при всех ее несомненных достоинствах. Оба исследования продолжали достаточно строго придерживаться критического подхода в русле марксистской исследовательской парадигмы, что создавало понятные ограничения. Тем не менее Д.Ю. Арапову удалось дать исчерпывающую картину накопления эмпирических сведений о Средней Азии русскими путешественниками и служащими, подробно рассказать о формировании источниковой базы по теме. О.Б. Бокиев, в свою очередь, четко обозначил периоды становления и сильные стороны дореволюционного изучения темы, но в то же время отметил, что «оно пока далеко от завершения и перед нами стоит немало нерешенных проблем» [4, с. 146].
Более обстоятельные историографические исследования представлены уже в постсоветские 90-е и 2000-е годы. Диссертациями по теме отметились Х. Пирумшоев [27] и О.В. Шкляе-ва [40]. В этих работах была дана исчерпывающая картина изучения темы с XVIII столетия до момента написания и защиты исследований. Х. Пирумшоев особо выделяет группу работ российских историков, посвященных «изучению русско-азиатских посольских и торгово-экономических связей» [27, с. 5], и неутешительно констатирует «неудовлетворительную степень изученности» [27, с. 8] данного направления на момент середины 1990-х годов. О.В. Шкляева подчеркивает, что сибирско-среднеазиатская торговля хоть и не была велика по объемам, но «позволяла России пополнить казну, укрепить экономические связи внутри страны и расширить контакты с восточными соседями». Ученая подчеркивает актуальность изучения данной проблемы в силу выстраивания нового формата отношений между Россией и республиками после распада СССР. «Большой интерес» к теме фиксирует в своей статье 2014 г. Н.Т. Рахимов [30].
В работах постсоветского периода можно отметить поиски новой исследовательской оптики. А.А. Чурсина пришла к выводу о том, что «на начальном этапе развития предприни- мательства и торговли служилые люди были ведущей социальной группой в этой сфере» [38, с. 117], что явилось развитием и логическим завершением ранее только намеченных сюжетов в исполнении С.В. Бахрушина и О.Н. Вилкова; более того, исследователь намечает перспективы изучения темы в виде «воссоздания биографий и родословных служилых людей, принимавших активное участие в экономическом развитии региона» [38, с. 117]. Н.А. Кузнецов впервые отмечает роль бухарских евреев в развитии сибирско-среднеазиатской торговли [20]. И.Д. Пузырев предложил рассматривать деятельность торговых бухарцев Сибири в рамках концепции «имперских посредников» Дж. Бербанка и Ф. Купера [43, р. 13]. В частности, он утверждает: «В конце XVI – начале XVII в. в глазах русской воеводской власти бухарцы превращались из “чужих” в “своих” агентов… царские воеводы начали привлекать бухарцев к разведке» [29, с. 391]. Оставим за скобками дискуссию о том, можно ли Россию XVI–XVII вв. считать империей, но даже без этого работа И.Д. Пузырева, претендуя на свежесть подхода, на самом деле принципиальной новизны не демонстрирует, так как случаи обращения воеводских администраций к услугам торговых бухарцев в качестве разведчиков и агентов многократно описаны в трудах того же О.Н. Вилкова.
Особо стоит выделить работы авторов, стремящихся исследовать торговые отношения в контексте межкультурного взаимодействия. Е.О. Полякова [28] рассматривает «сибирских бухарцев» (осевших торговцев) в качестве «носителей… диалога цивилизаций и культур» в ходе ранней фазы выстраивания отношений между Россией и миром большого Востока, включая Китай. Аналогичная проблематика разрабатывается в исследованиях А.П. Яркова, рассматривающего взаимодействие двух мегарегионов (Сибирь и Средняя Азия) в контексте одновременно «экономических, этногенетических и культурных коммуникаций» [42] и приходящего к выводу, что бухарские купцы не только стали важнейшими кросс-культурными медиаторами в полиэтнической и поликонфессио-нальной западносибирской среде (на основе общности с местными татарскими, башкирскими и казахскими племенами), но и внесли серьезный вклад в изменение культуры и традиций коренных сибиряков.
Одна из последних на сегодняшний день работ по исследуемой нами проблеме – монография Д.Л. Макеева [23], равно как и статьи С.А. Чернышова [34; 35], хоть и стремится поместить сибирско-среднеазиатские отношения в контекст мировой торговли (в треугольнике «Европа – Россия – Азия»), однако каких-то оригинальных идей не предлагают.
Значительно расширяется и «отвязывается» от республиканских столиц «исследовательская география». Наряду с продолжением деятельности Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья при Институте востоковедения РАН достойными внимания представляются современные усилия групп исследователей, связанных с томскими, новосибирскими, курганскими, челябинскими, оренбургскими, тюменскими научными центрами. Под эгидой Новосибирского государственного университета активно пополняется и обновляется сайт «Сибирская заимка. История Сибири в научных публикациях» [31]. Регулярно проводятся Уральские археологические совещания, в материалах которых также можно обнаружить сюжеты, связанные с предметом нашего обсуждения.
Не обойдена тема и зарубежными исследователями. В 1997 г. опубликована книга американского историка А. Бартона [44], в которой автор отмечает особую интенсивность в складывании торговых контактов во второй половине XVI в., активно работает с картографией торговли, привлекает ранее не публиковавшиеся среднеазиатские источники. Впрочем, каких-то оригинальных выводов А. Бартон не предлагает. Немецкий исследователь К. Ноаск [46] заключает, что торговля Русского государства со Средней Азией занимала важное место в системе русских внешнеполитических связей и стала важнейшим фактором развития сибирского фронтира. Кратко исследуемого периода касается американская исследовательница Э. Монахам [45], изучившая историю проникновения среднеазиатских купцов в Западную Сибирь и складывание бухарских торговых общин и династий.
Результат. Таким образом, в историографии сибирско-среднеазиатских торговых отношений мы можем выделить конкретные периоды, характеризующиеся двумя основны- ми факторами – политико-историческим, связанным с форматом русской государственности и формой отношений со среднеазиатскими народами, и собственно историографическим, связанным с глубиной разработки темы, ее проблемным полем.
Первый период включает в себя исторические исследования с XVIII до начала XX в., который достаточно условно можно разделить еще на два подпериода. В трудах авторов XVIII в. торговля Сибири со Средней Азией не выделяется в отдельный предмет научного интереса, рассматривается как составляющая общего изучения восточного направления политики России. Происходит первичное накопление эмпирического материала и освоение первых источников по данной теме. Историки XIX – начала XX в. продолжают и развивают сюжеты, заданные предшественниками: концептуальных работ, посвященных непосредственно интересующей нас теме, по-прежнему не появляется. Наряду с признанием пользы от бухарской торговли для жителей Сибири по-прежнему ключевыми направлениями, определяющими характер отношений со Средней Азией, видятся Индия и Китай. Господствует «великодержавное настроение» [27, с. 14], культуртрегерский взгляд на процесс взаимодействия между народами. Востоковедение этого периода – как академическое, так и практическое – неотделимо от внешнеполитического курса, задаваемого имперским дискурсом.
Второй период – с 1917 до 1980-х гг. – разработка темы советскими учеными. Происходит фундаментальная смена подхода: исследователи начинают рассматривать процесс установления отношений с народами Средней Азии не в контексте покорения, а в контексте взаимодействия. Как следствие, разработка темы выходит на качественно иной уровень глубины и детализации, в частности появляются фундаментальные труды, целиком посвященные интересующей нас теме, в которых делаются концептуальные выводы о влиянии сибирско-среднеазиатской торговли на развитие экономик участников. Привлекается массив ранее не изученных статистических и делопроизводственных документов.
Третий период – с 1980-х гг. до наших дней – отмечен пересмотром марксистской методоло- гии и постепенным отказом от нее, что приводит к ситуации методологического плюрализма. Происходит смещение акцентов в исследованиях: изучаются культурный, ментальный, геополитический аспекты торговых отношений. Появляются первые специальные историографические труды по интересующей нас теме.
В связи с этим перспективной видится актуализация и разработка сюжетов, слабо акцентированных (или только намеченных) ранее или потенциально выводящих на новые исследовательские горизонты: структурный анализ сибирско-среднеазиатской торговли на уровне малых и больших сообществ (участие в торговле казаков, представителей коренных народов Сибири, церковно-монастырской корпорации); развитие темы, заданной американской исследовательницей Эрикой Монахан, выстраивающей свои нарративы вокруг конкретных торговых династий; изучения по источникам восприятия системы торговых отношений их участниками – от купцов до конечных потребителей; изменения, вносимые торговлей в повседневную жизнь жителей Сибири, развитие микроисторических сюжетов. Помощь в этом может оказать обращение к инструментарию и достижениям специальных научных дисциплин: генеалогии, способной внести ясность в активность упомянутых торговых династий и конкретных представителей сибирско-среднеазиатской коммерции; нумизматики, выявляющей особенности денежного обращения в ходе проведения торговых операций; исторической географии, проливающей свет на видение и понимание торговых пространств и траекторий участниками торговых отношений; исторической демографии, отражающей этнические компоненты торговли. Несомненную пользу способно оказать обращение к исследованиям смежных сюжетов, фондам литературы, слабо известной российскому читателю и исследователю, налаживание профессионального взаимодействия с республиканскими коллегами.