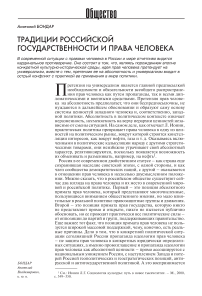Традиции российской государственности и права человека
Автор: Бондар Анатолий Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Общество
Статья в выпуске: 10, 2008 года.
Бесплатный доступ
В современной ситуации с правами человека в России и мире отчетливо видится кардинальное противоречие. Оно состоит в том, что, являясь порождением вполне конкретной культурно-исторической среды, идея прав человека претендует на универсализм, вместе с тем, претензия ее на абсолютность и универсализм входит в острый конфликт с практикой ее применения в мире политики
Короткий адрес: https://sciup.org/170169166
IDR: 170169166
Текст научной статьи Традиции российской государственности и права человека
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В современной ситуации с правами человека в России и мире отчетливо видится кардинальное противоречие. Оно состоит в том, что, являясь порождением вполне конкретной культурно-исторической среды, идея прав человека претендует на универсализм, вместе с тем, претензия ее на абсолютность и универсализм входит в острый конфликт с практикой ее применения в мире политики.
П ретензия на универсализм является главной предпосылкой необходимости и обязательности всеобщего распространения прав человека как путем пропаганды, так и всеми дипломатическими и военными средствами. Претензия прав человека на абсолютность предполагает, что они беспредпосылочны, не нуждаются в дальнейшем обосновании и образуют саму основу системы ценностей западного человека и, соответственно, западной политики. Абсолютность в политическом контексте означает неразменность, несменяемость на верху иерархии ценностей независимо от смены ситуаций. На самом деле, как отмечает Л. Ионин, практическая политика превращает права человека в одну из ценностей на политическом рынке, вокруг которой строятся констелляции интересов, как вокруг нефти, газа и т. д. Оказываясь включенными в политические калькуляции наряду с другими стратегическими товарами, они неизбежно утрачивают свой абсолютный характер, релятивизируются, поскольку появляется возможность их обменивать и разменивать, например, на нефть1.
Россия в ее современном двойственном статусе – как страна еще сохранившая наследие советской эпохи, с одной стороны, и как член сообщества демократических наций, с другой – оказывается в отношении прав человека в несколько двусмысленном положении. Можно сказать, что в российском обществе существуют сейчас два взгляда на права человека и их место в современной мировой и российской политике. Первый – это позиция абсолютного примата прав человека, который представляют многочисленные, пользующиеся вниманием общественного мнения, но мало влиятельные в реальной политике правозащитные группы и движения. Второй – это позиция примата прав государства, которую никто не представляет прямо и открыто, никто не пытается публично обосновать, но ее проводят практически все политические силы – от оппозиции до партий и групп, поддерживающих правительство. Еще важнее тот факт, что позиция примата прав человека не пользуется широкой массовой поддержкой, чему, конечно, есть реальные причины. Дело в том, что в конкретной политической ситуации сегодняшней России пропаганда идеологии прав человека – не защита прав человека в конкретных юридически определенных ситуациях, а именно провозглашение и пропаганда идеологии прав человека как абсолютной ценности – прямо ассоциируется с национальным унижением России, с наступлением Запада и потерей Россией геополитических и геостратегических позиций, анти
БОНДАР русской и антигосударственной политикой. А это воспринимается
Анатолий
Владимирович, 1 См.: Ионин Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. – М., 2000, к. ю. н. с. 349–350.
массовым сознанием как ущерб интересам России – реальным или воображае-мым1.
Соответственно, политика и пропаганда прав человека в России оказались в двусмысленной и противоречивой ситуации. Это следует, прежде всего, из того, что нет логических оснований для выдвижения в качестве универсальной и абсолютной вполне партикулярной идеологии, родившейся в Европе Нового времени. Являясь идеологемой, она неизбежно входит и будет входить в конфликт с автохтонными идеологиями, имеющими собственные, освященные традицией и религией представления о свободе и достоинстве человека. Можно сколько угодно осуждать эти идеологии как проявление ограниченности и национальной узости, но они от этого не перестанут быть менее действенными в сознании людей. И данное положение определяется именно культурной традицией того или иного исторически состоявшегося народа.
Российская политическая культура (и культура вообще) до настоящего времени сохраняет сакральные основы, что распространяется и на политические институты (государство), и на политические формы и структуры (система, режим). Все это стало возможным потому, что сакральный элемент остается смыслообразующим в общественном – традиционно-архаическом сознании, которое не вполне отличает миф от реальности.
Наиболее полно, по мнению Н. Щербининой, сакральная основа российского понимания политики проявляется в понятии «справедливость». Мы имеем здесь дело, пишет она, не с отвлеченной пустой абстракцией, а с идеалом первобытности, взыскующим материализации. Этот архаизм, преломившись через архаическую «уравнительную» традицию, лег в основу современных политических мифов о будущем. Его живучесть также свидетельствует об архаичности российского общественного сознания. И содержательно это сознание сконструировано так, что базисные ценности интегрированы в идеал справедливости – все соотносится с ним2.
Что же касается такой универсальной ценности, как «социальная справедливость», то ее значение в жизни российского общества действительно всегда было очень высоким. Россия по отношению к этой ценности сильно отличается от западных государств. Более 50% населения страны (по данным многочисленных социологических исследований) и сейчас выступает за социальную справедливость. Но это не идеал «первобытности», как пишет Н. Щербинина, а требование справедливого распределения деятельности (труда), социальных благ, уровня и качества жизни, информации и культурных ценностей. Как видим, это не требование реализации абсолютного идеала в реальной жизни, а требование относительных вещей – гарантированного права на труд, исключения социальной дискриминации, минимального гарантированного уровня и качества жизни, равного доступа к культурным ценностям и т. д. И во всех этих вопросах для их приемлемого решения для большинства решающая роль, естественно, принадлежит государству как универсальному социальнополитическому институту, способному обеспечить равновесие и пропорциональность в обществе.
Здесь также следует отметить и такую политическую традицию, как отношение к позитивному праву в России. «Внешняя свобода», т. е. свобода личного выбора, ограниченного рационально сконструированными нормами, законами и которое, наверное, было уже с ХII в. ключевым понятием западного правосознания, никогда в России не была приоритетной ценностью и замещалась понятием «воли» как полной свободы и независимости человека. Другими словами, особенность правового архетипа русского народа проявляется, с одной стороны, в справедливом осознании объективной недостаточности правовых норм, а с другой – в недооценке реальных возможностей права в регулировании социальных и других отношений. Следствием двойственности русского правосознания, отмечал митрополит Иоанн (Снычев), была «готовность, с одной стороны, беспрекословно повиноваться, не претендуя на соучастие в управлении страной, а с другой – полное презрение к законам, писаным тогда, когда они не соответству- ют традиционным морально-этическим императивам»1.
Таким образом, для православной культуры с ее понятиями «греха», «греховности» не свойственна фетишизация законности (на Западе – «Закон суров, но это закон», «Пусть мир рухнет, но восторжествует закон»). Русское понимание права исходит из неизбежности несовершенства человеческих законов, и поэтому в русском правосознании применение закона должно соответствовать «правде», «справедливости» и «совести». Вместе с тем следует отметить, что Россия принадлежит традиции, идущей от античности и от христианского представления о личности, – традиции, для которой государство, не признающее гражданских прав и ряда свобод, вообще не может таковым называться. Государство существует для общего блага всех соотечественников, она является не механической суммой интересов, но целым, ради которого в иных ситуациях гражданин должен жертвовать не только собственностью, но и жизнью2. В. Соловьев в работе «Духовные основы жизни» писал: «Есть в христианском государстве господство, но господство не во имя своей силы, а во имя общего блага… Есть в христианском государстве подчинение, но не из рабского страха, а по совести и добровольно, ради того общего дела, которому одинаково служат и повелитель и подданные. Существуют в христианском государстве права, но права, вытекающие не из безграничности человеческого эгоизма, а из нравственной бесконечности человека, как существа богоподобного. Есть в христианском государстве закон, но не в смысле простого узаконения действительных отношений, а в смысле их исправления по идеям высшей правды»3.
В этом контексте можно сказать, что ведущее на сегодняшний день положение в политической культуре российского общества занимают ценности державности, выражающие приоритет групповой справедливости перед принципами индивидуальной свободы, а в конечном счете – ведущую роль государства в регу- лировании политической и социальной жизни.
И еще один момент, на который необходимо обратить самое серьезное внимание, поскольку он тоже является основой формирования и развития политических традиций русского общества. Здесь имеются в виду те черты духовного склада русского народа и социальной организации его жизни, которые сформировались благодаря православию. Прежде всего, это привычка воспринимать других людей как братьев, независимо от национальной принадлежности. В контексте русской культуры различные нормы, стандарты и традиции существования чаще всего не противополагались, но сополагались друг другу. И поэтому русские православные люди всегда жили с инородцами и иноверцами мирно4. Православная убежденность в равенстве людей перед Богом привела к пониманию необходимости равных прав для всех.
Этногенез великороссов, становление этнического самосознания проходили в значительной степени под воздействием исихазма, который был во многом антитезой гуманизму и рационализму, но, как и они, знаменовал собой усиление индивидуалистического направления в христианстве. Но если в католическом миросозерцании все большее внимание уделялось удовлетворению материальных, физиологических и чувственных потребностей, то в православии созерцательный исихазм требовал безусловного приоритета духовного над материальным, ограничения материальных потребностей и сосредоточения самосознания на самом себе. Идеальной ценностью становится не материальный или общественный прогресс, а совершенствование души. Соответственно, большое место в народном сознании стали занимать представления о стыде и совести.
Иными словами, речь идет не о нормах поведения, жестких предписаниях и запретах, а о миропонимании, мироощущении, которые прямо определятся ценностями и культурной традицией. Способы выражения их содержания, конечно, могут варьироваться, но и возможность выразить заданное содержание именно таким способом заложена в сознание народа. Хотя внешне кажется, что эти способы выражения единого содержания не имеют между собой ничего общего.
Таким образом, русский человек, и об этом свидетельствует исторический опыт, отраженный в традициях его культуры, привык ставить общественное выше личного, личную свободу подчинять потребностям коллектива, привык работать артельно. И в советское время умело использовалась способность народа к героическому порыву, самопожертвованию, коллективному труду на строительстве индустриальных гигантов, освоении Севера и т. д. Россиянин не мыслит себя вне общества, и, сохраняя высокую ценность коллективного труда, он требует от государства создания условий для жизнеобеспечения и развития общества, защиты фундаментальных ценностей российской культуры.
Фактически мы имеем дело с тем, что политические традиции российского общества, реорганизуясь, эффективно приспосабливаются к изменяющимся условиям, а традиционные ценности могут даже обеспечивать источники легитимации для достижения новых целей. Однако в целом характер модификации традиций не произволен, поскольку он задан традицией изнутри. Общество, имея реальные и символические события прошлого, порядок и образы которого являются ядром коллективной идентичности, выступают также и определением меры и природы его социальных и культурных изменений. Традиция служит не только символом непрерывности, но и модификатором инноваций и главным критерием их законности, а также определителем пределов допустимых вариантов социальной активности.
Когда речь заходит об угрозе отхода России от демократических завоеваний, большинство опрошенных видят ее не столько в концентрации власти в руках президента (6,7%) или отсутствии оппозиции (18,2%), сколько в колоссальном разрыве между богатством и бедностью (47,3%), в отсутствии равенства всех перед законом (36,5%) и в сращивании власти и капитала, высшей бюрократии и олигархов (31,1%)1. Соответственно, можно утверждать, что в общественном сознании россиян понятие «демократия» в подавляющем большинстве случаев наполняется социально-экономическим содержанием, а не политическим, как это свойственно западной политической традиции.
Этот факт как в России, так и за рубежом, все чаще интерпретируют как реальную угрозу демократическому развитию страны. В последнее время все чаще звучат голоса тех, кто в числе «носителей» угроз демократии в России называет не только власть, но и само общество, которое в ней разочаровалось и якобы жаждет наведения жесткого порядка авторитарными методами. Ситуация, однако, как отмечают исследователи ВЦИОМ, выглядит не такой однозначной и одномерной, как иногда представляется.
Не стоит спешить с утверждением об отторжении российской «почвой» демократических институтов и ценностей. По их мнению, социологические исследования не фиксируют тотального разочарования в тех ценностях, запрос на которые сформировался еще в период горбачевской перестройки, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. Граждане по-прежнему считают важным существование реальной выборности органов власти, свободы слова, свободы передвижения, свободы предпринимательства и т. д. Проблемы начинаются, когда демократические ценности и установки вступают в «контакт» с реальностью, когда возникает разрыв (и это фиксируется опросами) между отношением к демократии как к социальной идее и теми инструментальными возможностями, которыми она располагает, а прежде всего, для реализации социальноэкономических прав граждан. Россиян действительно мало волнует, и это надо признать, все то, что вызывает обеспокоенность элитных групп, – доминирование исполнительной власти над законодательной, независимость СМИ, отсутствие в Государственной Думе реальной оппозиции президенту и его курсу. В отличие от политиков и экспертов, россияне главную угрозу демократии усматривают в разрыве между богатством и бедностью и также в отсутствии равенства всех граждан перед законом2.
Тот факт, что главная угроза демократии лежит, по мнению населения, в соци- ально-экономической сфере, в трудности для многих реализовать свои социальные и экономические права и интересы, подтверждают и ответы респондентов на вопрос о том, какие из основных гражданских прав и свобод сегодня являются наиболее важными и какие – трудно реализуемыми. По их мнению, наиболее важными и одновременно трудно реализуемыми являются право на труд, на социальное обеспечение, на охрану здоровья, жилище, а также судебную защиту своих интересов.
В целом же кризис «демократии участия» в условиях современной России – это отнюдь не следствие низкого уровня политической культуры в том смысле, что люди в большинстве своем понимают что-то не так в окружающей их действительности или не понимают вовсе. Скорее, наоборот, это следствие достаточно отчетливого понимания, как устроена российская политическая жизнь1. И это, безусловно, следствие не только политики правящего класса, но и реальное проявление политических традиций, когда население ждет от государства его поворота к своим интересам.
В данном контексте, конечно, не потеряла своего значения и идея социальной справедливости, которая относится к ключевым политическим традициям российского общества. В постперестроечный период идея социальной справедливости находилась в фокусе общественного внимания, присутствовала в той или иной форме в программах большинства политических партий и движений. Репрезентативные эмпирические исследования фиксируют, что категория справедливости по-прежнему находится в ряду наиболее значимых для россиян ценностей.
В данном контексте принципиальное значение имеет то, что основное недовольство россиян связано не с отдельными проявлениями социальных неравенств или низким уровнем личных доходов. В сегодняшней России социальное недовольство замыкается на базовые ценностно-мировоззренческие позиции россиян и в результате приобретает характер недовольства сложившимися в стране за годы реформ социально-экономическими отношениями, включая и распреде- ление собственности, и распределение доходов.
Иначе говоря, проблема легитимации социальных неравенств в современной России и преодоления недовольства россиян сложившейся в стране ситуацией заключается не столько в повышении зарплат бюджетникам или пенсий пенсионерам, сколько в общем изменении правил «игры», близости этих правил с теми представлениями о социальной справедливости, которые являются основополагающими для российского национального самосознания. При этом основанием легитимности различий в получаемых благах является, в представлении россиян, именно труд, справедливое его вознаграждение, а не близость к власти или умение «отхватить» в ходе приватизации «жирный кусок».
В последние десятилетия в российском общественном сознании фактически произошел резкий спад интереса к политическим и гражданским правам по сравнению с 1989 г. (1989 г. – 11%, 1994 – 5%, 1999 – 2%), что, по-видимому, как писал Ю. Левада, является результатом массового разочарования в новых политический институтах: права как будто бы имеются, а реального улучшения положения и реального участия рядового человека в государственном управлении так же нет. Поэтому гражданские права и свободы занимают нижние позиции в «иерархии» наиболее востребованных прав и свобод. Обычно это объясняют тем, что жизненная энергия россиян все последние годы практически безраздельно расходовалась на элементарное выживание и адаптацию к новым условиям и обстоятельствам жизни, когда уже нет ни времени, ни возможности как-то бороться и отстаивать свои права и интересы. Но, судя по социологическим данным, эмпирическое подтверждение эта точка зрения если и находит, то лишь частично, применительно к группам и слоям, оказавшимся действительно в сложном положении и вынужденным любой ценой приспосабливаться к происходящим в стране изме-нениям2.
Более адекватно выглядит объяснение, которое в некоторой степени отражает традиционное отношение наших сограж- дан к формальному праву. В представлениях россиян законы ассоциируются с некоторыми рамками или границами их свободы, которые они вынуждены либо не переходить, либо обходить, проявляя избирательность и осторожность. Понимание закона как рамки с зачастую нечеткими, изменчивыми контурами придает ему статус особой реальности: оставаться в рамках закона – значит уметь манипулировать его нормами. Так, вместо «игры по правилам» граждане ведут «игру с правилами», а в процессе всевозможных манипуляций собственно и происходит их деформализация. Нечеткость вводимого правила, сознательно допущенная двусмысленность его формулировки сродни любой неписанной норме, чье применение освоено едва ли не каждым россиянином на интуитивном уровне из опыта неформальных взаимодействий. Именно этим сложившиеся в России круги людей постоянного общения, т. е. «свои», отличают российское общество от остальных, по крайней мере, от развитых стран, где
«свои» – это сограждане, которые имеют и воспринимают в качестве базового свой гражданско-правовой статус1.
На этом общем фоне отнюдь не случаен дрейф массовых установок, начавшийся еще в ельцинские времена, в сторону сильного государства, справедливости, порядка и т. д. В целом же в массовом сознании достаточно отчетливо просматривается присущее россиянам двойственное восприятие роли государства. С одной стороны, есть вполне естественная потребность в некой силе (в данном случае в президенте), которая могла бы защитить от давления со стороны бюрократии и олигархии и ограничить экспансионистскую природу рынка с его стремлением подчинить все сферы жизни, а с другой – присущее им недоверие к какому бы то ни было администрированию и контролю.