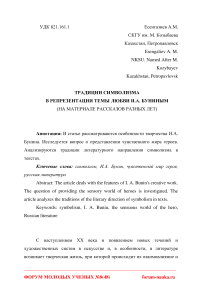Традиции символизма в репрезентации темы любви И.А. Буниным (на материале рассказов разных лет)
Автор: Есенгазиев А.М.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 8 (48), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности творчества И.А. Бунина. Исследуется вопрос о представлении чувственного мира героев. Анализируются традиции литературного направления символизма в текстах.
Символизм, и.а. бунин, чувственный мир героя, русская литература
Короткий адрес: https://sciup.org/140288127
IDR: 140288127 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Традиции символизма в репрезентации темы любви И.А. Буниным (на материале рассказов разных лет)
С наступлением ХХ века и появлением новых течений и художественных систем в искусстве и, в особенности, в литературе возникает творческая жизнь, при которой происходит их взаимовлияние и воздействие друг на друга. Вопросы о влиянии определенного течения на того или иного автора неумолимы и появляются с завидной частотой. Эти вопросы встают перед нами со всей очевидностью, когда мы рассматриваем творчество И.А. Бунина. Спорным является вопрос о принадлежности И.А. Бунина к модернизму, о влиянии символизма на его поэзию и прозу. Поэтому целью данной статьи является анализ элементов поэтики символизма при репрезентации вечных тем любви и смерти в бунинских рассказах разных лет.
Темы любви и смерти в художественном мире И.А. Бунина мы относим к «вечным» по нескольким причинам. Во-первых, все поколения людей на Земле любили, любят и будут любить. Поэтому избежать любви невозможно - она у писателя неотвратима, как смерть. Во-вторых, любовь и смерть сопрягаются в творческом контексте - они преобразовывают, трансформируют картину мира в глазах героя, принципиально изменяя мироздание. Рассказ «Лёгкое дыхание» начинается с описания могилы героини: «На кладбище над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий. Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста. В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне - фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами. Это Оля Мещерская» [1, т. 4, с. 94].
Контраст могилы и радостных, живых глаз мотивирует настойчивый интерес повествователя к Оле и к природе любви. В рассказе «Митина любовь» встреча героя с Катей так же изменяет мир, как и сюжетно предшествующая смерть отца: «Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, - и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду...» [1, т. 4, с. 348]. Смерть преобразует картину мира во всей универсальной целостности: «Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, — все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности!» [1, т. 4, с. 349]. Такой же творческой силой наделяется любовь. Готовность к любви изменяет Олю Мещерскую: «Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему- то никого не любили так младшие классы, как ее» [1, т. 4, с. 95]. Любовь преображает не только Митю, но и весь мир вокруг него: «И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет, - есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки - разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело?» [1, т. 4, с. 343].
Похожую сцену мы можем увидеть и в «Солнечном ударе»: «Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею - и пуст. Это было странно! Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате» [1, т. 4, с. 384].
И.А. Бунину не нужно лишних слов: достаточно просто увидеть, почувствовать, и любовь окутает, разорвет, соберет заново личность и всю ее жизнь, творчески преобразуя мир вокруг нее. Любовь и смерть в понимании И.А. Бунина неизбежны, как судьба, и так же непостижимы. Загадку Оли Мещерской как воплощения женственности и смерти пытается разгадать ее классная дама: «Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой.
Теперь Оля Мещерская - предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов» [1, т. 4, с. 98]. Задаётся вечным вопросом о сущности любви Митя: «Что это значит вообще - любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства...» [1, т. 4, с. 338]. Нет столь подробного рассуждения о природе любви в «Солнечном ударе», но, тем не менее, поручик испытывает сходное чувство сомнения в самом себе, недоумение от собственных ощущений: «Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?». [1, т. 4, с. 384]
Своеобразием репрезентации любви в художественном мире И.А. Бунина мы считаем многообразие форм ее проявления. Традиционно любовная тема имеет ценностно-коннотативную константу как проявление авторской индивидуальности: любовь как святыня, как дьявольское искушение, гармония или хаос, счастье или мука, духовное или телесное воплощение, окрыляющее или разрушительное начало. У И.А. Бунина сосуществуют самые разнообразные формы и конфликты любовных сюжетов: социальные, психологические, чувственные, высокие и низменные, связанные с изменой или пожизненной верностью. Обратим внимание на конкретные примеры в рассказах «Легкое дыхание», «Солнечный удар», «Митина любовь» и «Часовня» из сборника «Темные аллеи». Оля Мещерская рассказывает: «За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!». [1, т. 4 , с. 97]
При этом авторской константой является неподсудность любви, ее самодостаточность и самоценность, отказ от оценочно-иерархических представлений. Такое разнообразие проявлений любви при авторском объективном подходе присуще, скорее, русскому символизму, нежели реализму с жесткой причинно-следственной и конкретно исторической обусловленностью: «Если вы, отрешившись от наскучившей вам повседневности, одиноко сядете у большого окна, перед которым, как прилив и отлив, беспрерывно движется толпа проходящих, вы через несколько мгновений будете втянуты в наслаждение созерцания, и мысленно сольетесь с этим движущимся разнообразием. <…> В мимолетных улыбках, в случайных движениях, в мелькнувших профилях, вы угадаете скрытые драмы и романы, и чем больше вы будете смотреть, тем яснее вам будет рисоваться незримая жизнь за очевидной внешностью, и все эти призраки, которым кажется, что они живут, предстанут перед вами лишь как движущиеся ткани, как созданья вашей собственной мечты. <…> Между тем, если б вы находились сами в этой толпе, принимая равноправное участие в ее непосредственных движениях, неся ярмо повседневности, вы, пожалуй, не увидели бы в этой толпе ничего, кроме обыкновенного скопления народа, в определенный час, на определенной улице. Таковы две разные художественные манеры созерцания, два различные строя художественного восприятия - реализм и символизм». [2, с. 348-349]
Так характеризует художественный метод символистов К.Д. Бальмонт в своей статье «Элементарные слова о символической поэзии». Следуя данной трактовке, можно констатировать следующее.
Мы можем с уверенностью сказать о крайне сильной традиции символизма в прозе И.А. Бунина и о значительном влиянии символизма на его творчество. В реалиях ХХ века и культурно-исторического процесса того времени избежать влияния символизма и реализма друг на друга было бы просто невозможно, иначе вопрос о творческом методе И.А. Бунина не стоял бы так остро. Писатель достаточно часто использует символистские средства выразительности для интерпретации любви и смерти. Сущность женственного очарования Оли Мещерской - «легкое дыхание»: «Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» [1, т. 4 , с. 98]. Женственное начало в рассказе И.А. Бунина «имеет отношение как к вечному, божественному, так и к земному миру», и в этом отношении оно вызывает нешуточный интерес нарратора и ассоциируется с символистской концепцией Софии -Премудрости Божией [3, с. 33].
София «символизирует божественное знание и возможность гармоничного единения человека с Богом, сотворчество». А красота, как и любовь, «наделяется в символизме онтологическими и гносеологическими свойствами». [3, с. 33] И.А. Бунин не только раскрывает онтологическую природу любви, но и органично использует модернистские символы: «Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая» [1, т. 4 , с. 347]. Мучительные, дисгармоничные отношения Кати и Мити, страдания героя из-за несовпадения реальной возлюбленной с ее вымышленным образом, из-за ревности и неприятия ее театральных перспектив воплощаются в символе «душа мира», который у позднего В. Соловьева является дисгармоничной стороной Софии: «…это душа мира, первая тварь, materia prima, имеющая в своей основе хаотическое начало, обладающее определенной свободой; олицетворение временного, дисгармоничного начала универсума». [3, с. 33]
Заметим, как болезненно сказывается любовь у И.А. Бунина -особенно когда её отнимают, когда она отсутствует. Сначала она зажигает людей тем зарядом взрывной силы, какая способна стирать города, а после оставляет черное пепелище. Но что такое любовь у символистов? Обратимся к старшему символисту К.Д. Бальмонту: «В том и величие и тайна и восторг любви, что жизнь и смерть становятся равны для того, кто полюбит. Жизнь своя и чужая.<…> Любовь ужасна, беспощадна, она чудовищна. Любовь нежна, любовь воздушна, любовь неизреченна, и необъяснима, и что бы ни говорить о любви, ее не замкнешь в слова, как не расскажешь музыку и не нарисуешь Солнце. Но только одно верно: тайна любви больше, чем тайна смерти, потому что сердце захочет жить и умереть ради любви, но не захочет жить без любви. Любовь иногда приводит к безумию. Иногда? Быть может, всегда? О, конечно всегда, но только порою это безумие тонет в красках и словах, схваченных лиризмом...». [2, с. 401-402] Лиризм и трагедийность в интерпретации любви также сближают художественный мир И.А. Бунина с поэтикой символизма. Какую бы грань концепции любви И.А. Бунина мы не возьмем, она никогда не будет выглядеть гладко: неумолимо в ней полыхает пламя, которое - только попробуй задуть - разрушит. Любовь, как и смерть, изображаются в духе канонов символизма: как нечто соединяющее, приводящее к безумию и уничтожающее все прочее.
Изобразительные средства И.А. Бунина воспринимаются чуть ли не наглядным примером, иллюстрацией выводов К.Д. Бальмонта. Это случилось с Олей Мещерской в рассказе «Легкое дыхание»: «...в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство». [1, т. 4 , с. 95] Давайте проследим внимательнее этот момент. Легкое дыхание на то и легкое, что тушить им можно только свечи, а не пожарище, -невесомое и краткое, которое рассеивается в ткани вселенной. В этой детали космического пейзажа проявляется бунинское использование поэтики символизма. Это многозначность самого названия, сопрягаемая с причинами гибели Оли Мещерской. О чем думала Оля, когда она умерла?
Заметим, что мы не видим ее душевной жизни в рассказе об её смерти. Только как итог в самом начале предстает топос кладбища в серые апрельские дни, а на кладбище - крест с вклеенным изображением Оли, на котором она - с живыми и радостными глазами. Легкое дыхание. Она не почувствовала смерти. Она просто выдохнула. В пересечении начала и финала прослеживается символистская интонация и попытка И.А. Бунина отпереть окно в бесконечность интерпретаций. Ведь с одной стороны, легкое дыхание - это метафора невесомости жизни Оли Мещерской, метафора легкости ее смерти, метафора ее любви - она возникнет и рассеется. Не менее важной является деталь, указанная автором, - «серые апрельские дни».
Заставляет задуматься, почему именно апрельские, а не осенние. Ведь если осень - это время всеобщего увядания, что было бы тематически близко к картине кладбища, то весна - это пора оживления и расцвета, символ того, что жизнь будет и после смерти. С другой стороны, легкое дыхание растворяется в космическом пейзаже вечности и бесконечности. Это символизм - окно в вечность. И не менее важная деталь рассказа - это мотив убийцы. Даже на предметном уровне мотив убийства неясен, как до сих пор ведутся споры о причинах самоубийства Мити. Мы можем строить новые смыслы, один поверх другого, и эта множественность читательских интерпретаций подтверждает, что творчество И.А. Бунина, хотел он того или нет, но испытывает влияние символистских тенденций русской литературы.
Всегда ли персонажи И.А. Бунина находят избавление от мук любви в смерти?
Нет, но всегда происходит расставание любящих героев, например, поручика и дамы в рассказе «Солнечный удар»: «Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет». [1, т.4, с. 388]
Он не умер, но в конце, обугленный и испещренный случившимся, просто не видит ничего для себя. Исчезла его любовь - забрала ближайшую перспективу и смысл. На предметном уровне очевидна продолжающаяся жизнь поручика. Остается память, неподвластная разрушительному времени, которая сохраняет мгновения солнечного удара любви. Так ли губительна любовь у И.А. Бунина на самом деле?
В рассказе «Часовня» из сборника «Темные аллеи» есть ключ; мы встречаем такой диалог:
«- А зачем он себя застрелил?
- Он был очень влюблен, а когда очень влюблен, всегда стреляют в себя...». [1, т. 5, с. 472]
С одной стороны - это ответ на «Митину любовь». Эта мысль о неизбежном конце от пули из-за неразделенной любви объясняет поступок Мити, и все же с ней можно не согласиться. Присмотримся повнимательнее к Мите, к поручику, к Оле Мещерской, а вернее, - к её убийце. Взглянем на того же «дядю» из «Часовни». Что их объединяет? Не только любовь, но и утрата любви, ее непостижимость и невозвратность. Митя стреляется с наслаждением, дабы успокоить боль в себе; убийца Оли Мещерской, обуянный любовной страстью, стреляет в нее; самоубийца из «Часовни» кончает с собой, потому что «очень влюблен», а поручик продолжает жить.
И в этом-то тоже проявляется связь художественного мира И.А. Бунина с поэтикой символизма - в свободе читательских интерпретаций как проявлении сотворчества с писателем. Почему именно «с наслаждением» Митя стреляет в себя? Только ли для укрощения боли? Быть может оттого, что мира для него не стало? Ведь Митя видел Катю везде в своей жизни, всё было - Катя. Но Катя ушла. Ушел мир. Ушла жизнь. «С наслаждением выстрелил». Но такова онтологическая природа единственной любви у И.А. Бунина: это пламя не затушить и не заменить суррогатом Аленки. Подлинная любовь даже в смерти утверждает свою неповторимость, единственность - поэтому любовь у И.А. Бунина страстная, и его персонажи, которым «посчастливилось» полюбить, -обречены на разлуку в пределах земной жизни и вечную память о любви, неподвластной времени. Конечно, мы не можем утверждать методологической принадлежности художественного мира И.А. Бунина модернизму и символизму, но очевидно влияние модернистских и символистских канонов поэтики на репрезентацию темы любви и смерти.
Именно поэтому любовь и смерть интерпретируются первым русским лауреатом Нобелевской премии как онтологические категории, сопричастные вечности, космической бесконечности и творческой памяти.
Список литературы Традиции символизма в репрезентации темы любви И.А. Буниным (на материале рассказов разных лет)
- Бунин И.А. Собрание сочинений: В 6 т. - М.: "Художественная литература", 1988. - Т. 4.Произведения 1914-1931. - 1988. - 703 с. - Т. 5. Жизнь Арсеньева. Рассказы 1932-1952. - 1988. - 639 с.
- Бальмонт К.Д. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6: Край Озириса; Где мой дом?; Очерки (1920-1923); Горные вершины: Сборник статей; Белые зарницы: Мысли и впечатления. - М.: Книжный Клуб Книговек, 2010. - 624 с.
- Блискавицкий А.А. Философско-эстетические основы русского символизма // Вестник славянских культур. - 2011. - №19. - Т. 1. - С. 31-43.