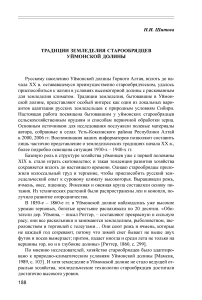Традиции земледелия старообрядцев Уймонской долины
Автор: Шитова Н.И.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521283
IDR: 14521283
Текст статьи Традиции земледелия старообрядцев Уймонской долины
Русскому населению Уймонской долины Горного Алтая, вплоть до начала ХХ в. остававшемуся преимущественно старообрядческим, удалось приспособиться к жизни в условиях высокогорной долины с рискованным для земледелия климатом. Традиции земледелия, бытовавшие в Уймон-ской долине, представляют особый интерес как один из локальных вариантов адаптации русских земледельцев к природным условиям Сибири. Настоящая работа посвящена бытовавшим у уймонских старообрядцев сельскохозяйственным орудиям и способам первичной обработки зерна. Основным источником для исследования послужили полевые материалы автора, собранные в селах Усть-Коксинского района Республики Алтай в 2000, 2006 гг. Воспоминания наших информаторов позволяют составить лишь частично представление о земледельческих традициях начала ХХ в., более подробно освещена ситуация 1930-х – 1940-х гг.
Базовую роль в структуре хозяйства уймонцев уже с первой половины ХIХ в. стало играть скотоводство; и такая тенденция развития хозяйства сохраняется вплоть до настоящего времени. Однако старообрядцы приложили колоссальный труд и терпение, чтобы приспособить русский земледельческий опыт к суровому климату высокогорья. Выращивали рожь, ячмень, овес, пшеницу. Ячменная и овсяная крупа составляли основу питания. Из технических растений были распространены лен и конопля, получило развитие огородничество.
В 1850-е – 1860-е гг. в Уймонской долине наблюдались уже высокие урожаи зерновых, богатые крестьяне распахивали по 20 десятин. «Обитатели дер. Уймона, – писал Риттер, – составляют прекрасную и сильную расу; они все раскольники и занимаются земледелием, рыболовством, звероловством и торговлей с телеутами… Они сеют рожь и ячмень, которые не каждый год созревают, потому что зимой снег бывает не выше двух футов и посев вымерзает; притом, падает иногда и среди лета не только на вершины гор, но и в глубокие долины» [Риттер, 1860, с. 299].
По мнению исследователей, хозяйство старообрядцев было адаптировано к природно-климатическим условиям Уймонской долины [Мамсик, 1989, с. 103] . И хотя земледелие в Уймонской долине не стало ведущей отраслью хозяйства, земледельческие технологии старообрядцев достигали достаточно высокого уровня.
Разнообразием отличался земледельческий инвентарь. Наши полевые материалы позволяют охарактеризовать соху, бытовавшую в Уймонской долине. Информаторы могут вспомнить, что соха была маленькой, деревянной, с острым металлическим лемехом, отвалкой, ручками. В соху чаще запрягали два коня. Пахать сохой было значительно тяжелее, чем плугом, она только бороздила и не отваливала пласта.
В конце 1920-х гг. на смену сохе пришли покупные железные плуги, которые были заменены более совершенной техникой в послевоенные годы. В плуг запрягали два – три коня при помощи веревочных тяжей, которые петельками соединяли с деревянным вальком. В работе участвовали два человека – плугарь шел за плугом, конями управлял ездок. Ездоками могли быть дети с 8 – 10 лет. В войну пахали на быках. До коллективизации плуг имелся почти в каждом хозяйстве, а те немногие, у кого его не было, брали плуг у односельчан и потом отрабатывали за него. На рубеже ХХ – ХХI вв., как говорят местные жители, «нужда заставила» некоторых хозяев вновь возвратиться к плугу (ПМА – здесь и далее полевые материалы автора).
В начале ХХ в. в Уймонской долине бытовали самодельные деревянные рамочные бороны, с железными зубьями. Зубья, которые крепили под прямым углом к деревянным перекладинам на раме, ковали местные кузнецы. Бороны имели прямоугольную форму, некоторые наши информаторы «видали» деревянные бороны треугольной формы. На смену самодельным боронам пришли покупные железные, которые были заменены тракторными в послевоенные годы. Спереди к бороне был привязан валек, который веревочными тяжами соединялся с хомутом. В борону запрягали одного коня, которого водили на поводу, или же конем правил ездок. «В ездоках» могли быть дети уже с 5 лет, боронить ставили подростков. В военные годы боронили на коровах и быках.
Время сева определяли старики, в с. Верх-Уймон для этого наблюдали, когда сойдет снег с поляны, расположенной на одной из горок вблизи села. Ко дню Святого Николы (Миколы), 21 мая, все зерновые культуры должны были быть посеяны. Чаще всего сеяли из специально разрезанного мешка с зашитыми краями. Одной рукой оттягивали мешок, другой разбрасывали зерно, пропуская его между пальцев. Такой мешок могли называть также лукошком. Использовали и берестяные лукошки: « под послед не было мешков, берестины сделаешь, она легка все же, берестина » (ПМА: М.Л. Захарова, 1920 г. р.). Сеяли также и из ведра. В предвоенные и военные годы стали появляться конные и тракторные сеялки. Сеять могли как мужчины, так и женщины, однако в военные годы сеяли женщины.
Жали хлеб серпом, также косили косой-литовкой, с деревянными граблями, сделанными из «тоненьких жердочек». Количество зубьев у таких грабель (3 – 6) колебалось в зависимости от силы работника, их прикрепляли к основанию косы с помощью винтов. При уборке косой с граблями хлеб ложился колосьями в одну сторону и отбрасывался ровными рядами.
Хлеба убирали также жнейками. Жали хлеб и на конных косилках с платформой-лобогрейкой. Работник длинными деревянными граблями набирал на нее скошенный хлеб, а затем сбрасывал на поле. В предвоенные, военные годы крестьяне продолжали убирать хлеб серпами, так как жнеек и косилок не хватало. « Одна всего косилка была, когда скашивать не успевают, все вручную потом ходили», вспоминает У. М. Аргокова (ПМА: У. М. Аргокова, 1924 г. р).
Сноп состоял из нескольких горстей сжатого хлеба, связанных «вязкой». Вязку делали из разделенной надвое горсти поменьше, соединяя верхние концы (где колосья) этих двух частей и скручивая их. При уборке хлеба косилкой снопы вязали также вязками из осоки. Кучу укладывали из 10 снопов. Сначала ставили один сноп, следом другие два с боков, потом еще два – это называлось «пятерик», далее к пятерику добавляли еще снопы, и получалась «куча». Складывали снопы вершинами вместе, чтобы они не промокли в случае дождя. Кучи возили, когда застынет земля, на телегах, санях и скирдовали.
Кучи укладывали также в маленькие или большие суслоны. Суслоны «сваживали» в скирды. Из куч, состоящих из десяти снопов, «клади клали», делали «кладь в лежанку». Клади укладывали зимой, реже осенью, перед тем, как собирались молотить. В колхозах при уборке хлеба косилкой снопы могли складывать в кучки с произвольным количеством снопов, в зависимости от урожайности. Кучки в ночное время всей деревней «сва-живали» в скирды.
Многие местные жители утверждают, что перед молотьбой хлеб в специальных помещениях не сушили, « свалится он уже сухой в землю » или «лопатой опеть же сушили». Некоторые вспоминали о существовании овинов и риг, которые топили печами – каменками, просушенный хлеб затем молотили цепами.
Хлеб свозили молотить на токи или гумна, где расстилали снопы и молотили цепами или лошадьми. Токи (гумна) могли быть открытыми или крытыми, в зависимости от возможностей хозяина. Открытый ток осенью представлял собой утоптанную площадку земли. Зимой расчищенную площадку заливали водой, таким образом, получали ледяную поверхность, которую по краям отгораживали снегом. Крытый ток отличался наличием крыши, расположен он был рядом с ригой. Зажиточные крестьяне и середняки молотили зерно на закрытых токах; открытые токи большее распространение получили в колхозном хозяйстве. Если хлеба было небольшое количество, молотили также в палатках.
Молотили осенью или зимой вручную, топтанием снопов лошадьми и машинами – молотилками. Вручную работали железными цепами, которые продолжали использовать и в предвоенные годы. К деревянному черенку, который чаще делали из березы, привязывали или привинчивали цепь, состоящую из колец, изготовленных местными кузнецами. Реже использовали мотовило, состоявшее из двух палок (большей и меньшей), связанных между собой. Лошадьми молотили следующим образом. Разрезали вязки, расстилали снопы на утоптанной земле или на льду. Две – четыре лошади привязывали друг к другу за хвосты, на одном коне сидел ездок-ребенок и (или) один человек понужал коней. Кони ходили по кругу и протаптывали зерно. Женщины переворачивали снопы, одна женщина следила за конями с лопатой, чтобы зерно не пропадало от нечистот животных. Зажиточными крестьянами, а позже в колхозах использовались машины – молотилки с конным приводом. Их называли также брызгалками, местные жители вспоминают, что первую «молотилочку – брызгалочку» привезли из Америки. Некоторые информаторы помнят молотилки другого типа – водяные «молотяги».
Над шестернями привода конной молотилки находился круглый деревянный полог, от которого отходили дышла, количество их варьировалось (обычно 3 – 4), в каждое дышло запрягали пару коней. Лошадей запрягали в хомуты, повода привязывали за следующее дышло. На полке стоял человек и подгонял коней кнутом, такая работа была опасной, так как коногона, если он провалится, могло покалечить. У самой молотилки два человека разрезали вязки снопов, а машинист растрясал снопы и подавал их в барабан машины. В молотилке происходила первичная очистка, отделялась солома. Для того чтобы отгребать зерно, отводили одного человека. В начале ХХ в. машины – молотилки в единичных экземплярах использовались зажиточными крестьянами. В колхозах они начали появляться « где-то в 39-м », на конных молотилках работали во время войны. В предвоенные годы еще продолжали молотить хлеб вручную и лошадьми: « Ни молотилок, ничо не было. Отбивали, то цепами которы, кто чем может, конями топтали. Уже в 39 – м я захватила маленько, еще были цепы » (ПМА:У. М. Аргокова, 1924 г. р.).
Веяли на ветру при помощи легкой деревянной (кедровой) лопаты, «лопатку вот бросали все ». На ветер могли также ставить деревянные пудовки (пудешки) с зерном. После веяния на ветру подсевали на решете диаметром около полутора метров, с волосяной или плетеной из проволоки сеткой. Размер ячейки решета подбирали так, чтобы « зерно не выходило, а трава проваливалась ». Решето подвешивали на высоту, которая зависела от роста вращающего решето. Вращение совершали так, чтобы мусор собирался отдельной кучкой, которую работник сгребал и отбрасывал, после чего продолжал вращать решето. Таким делом занимался, как правило, опытный старик, « это уже специалист », так как « уметь надо » соответствующим образом «скружить» мусор. В 1930-е годы нередко для веяния использовали ручные веялки, которые в военные годы преимущественно пришли на смену традиционным способам веяния. Основными частями веялки были барабан, клавиши и три решета – на первом задерживался крупный мусор, на втором – зерно, на третьем – мелкий мусор (семена, сурепка). За ручку веялки с трудом крутили два человека, решета тряслись и зерно очищалось.
Приведенные материалы указывают на замедленное развитие в Уй-монской долине сельскохозяйственных орудий и техники. Если в Европейской части России первые сельскохозяйственные машины начинали появляться во второй половине ХIХ в., то окончательное распространение подобной техники в достаточном количестве в Уймонской долине наши информаторы зачастую относят к предвоенному и военному времени. При этом в памяти местных жителей сохранились представления о более высоком уровне оснащения сельскохозяйственными машинами в первые десятилетия ХХ в. и более качественных хозяйственных постройках зажиточных крестьянских хозяйств по сравнению с колхозами 1930-х – 1940-х годов. В колхозном хозяйстве вплоть до второй половины ХХ в. еще бытовали традиционные орудия и способы первичной обработки зерна.