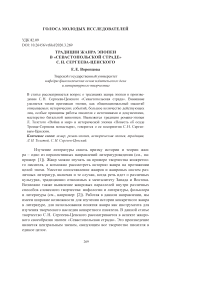Традиции жанра эпопеи в "Севастопольской страде" С.Н. Сергеева-Ценского
Автор: Воронцова Евгения Евгеньевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается вопрос о традициях жанра эпопеи в произведении С.Н. Сергеева-Ценского «Севастопольская страда». Внимание уделяется таким признакам эпопеи, как общенациональный масштаб описываемых исторических событий, большое количество действующих лиц, особые принципы работы писателя с источниками и документами, мастерство батальной живописи. Выявляется традиция романа-эпопеи Л. Толстого «Война и мир» и исторической эпопеи «Повесть об осаде Троице-Сергиева монастыря», говорится о ее восприятии С.Н. Сергеевым-Ценским.
Жанр, роман-эпопея, историческая эпопея, традиции, л.н. толстой, с.н. сергеев-ценский
Короткий адрес: https://sciup.org/146281720
IDR: 146281720 | УДК: 82.09 | DOI: 10.26456/vtfilol/2020.3.269
Текст научной статьи Традиции жанра эпопеи в "Севастопольской страде" С.Н. Сергеева-Ценского
Изучение литературы сквозь призму истории и теории жанра – одно из перспективных направлений литературоведения (см., например: [1]). Жанр можно изучать на примере творчества конкретного писателя, а возможно рассмотреть историю жанра на протяжении целой эпохи. Уместно сопоставление жанров и жанровых систем различных литератур, включая и те случаи, когда речь идет о различных культурах, традиционно относимых к менталитету Запада и Востока. Возможно также выявление жанровых параллелей внутри различных способов словесного творчества: мифологии и литературы, фольклора и литературы (см., например: [2]). Работая в данном направлении, мы имеем широкие возможности для изучения истории конкретного жанра в литературе, для использования понятия жанра как инструмента для изучения творческого наследия конкретного писателя. В данной статье творчество С. Н. Сергеева-Ценского рассматривается в аспекте жанрового своеобразия эпопеи «Севастопольская страда». Это произведение является центральным звеном, связующим все творчество писателя в единое целое.
С. Н. Сергеев-Ценский жил и творил в эпоху исторических перемен, которые происходили как в целом в стране, так и в отдельных сферах жизни, в частности, в русской литературе. В 1920–1930-е гг. в русской литературе происходили глобальные преобразования классических жанров, сформировавшихся XIX веке. О кризисе «позитивного русского романа» в середине 1890-х гг. первым заговорил Д. С. Мережковский. Н. А. Под-дячая указывает на углубившийся кризис романа в начале XX века, отмечая на этом фоне бурное развитие «малой прозы», а также активизацию жанровых процессов, усложнение фабулы и популяризацию жанра повести. Смысл явления заключался в том, что, с одной стороны, происходила «романизация» малой прозы, с другой – повесть воспринималась как часть романа или его глава, отдельно от него опубликованная [11]. Основной темой художественных произведений 1920–1930-х годов было героико-историческое прошлое страны.
Как отмечает Е. Д. Гордина, историческое направление в литературе пользовалось популярностью благодаря активной поддержке государства и стало одним из наиболее любимых у читательской аудитории. В это время лауреатами премий по литературе много лет подряд становятся авторы историко-патриотических романов: 1941 год – А. С. Новиков-Прибой, А. Н. Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский; 1942 – С. П. Бородин, В. Г. Ян, А. А. Антоновская; 1943 – В. В. Вересаев; 1946 – А. Н. Степанов, В. Я. Шишков; 1948 – В. И. Костылев [4].
Сергеев-Ценский, как и многие его коллеги по перу, активно занимался поиском новых художественных форм. Он соединял рассказы и повести в роман, а роман трансформировал в более крупную эпическую форму. Так создавалась с 1914 по 1958 год грандиозная эпопея «Преображение России», в которую вошли двенадцать романов, три повести и два этюда. Эпопея была посвящена событиям Первой мировой войны и Февральской революции 1917 года.
Из академического определения эпопеи: «…крупнейшая форма эпических произведений национально-исторической проблематики. <…> Для эпопеи характерны героический пафос, монументальная выпуклость и яркость повествования с большим количеством сравнений и гипербол. <…> Новой разновидностью эпопеи – романом-эпопеей – принято называть «Войну и мир» Л.Н. Толстого (1863–69). В ней равное значение имеют и раскрытие характеров многочисленных героев, и изображение грандиозных национально-исторических событий 1805 и 1812 гг. Образуется единство философско-психологического романа (“романа воспитания”) и эпической исторической хроники. Жанр романа-эпопеи получил широкое распространение в русской литературе 20 в.…» [16].
Б.М. Эйхенбаум считал, что Толстой принципиально не разделял исторический и неисторический сюжет и на этой основе, в сущности, была построена идеологическая концепция «Войны и мира». Эта основа выделяла роман на фоне обычных исторических произведений. Композиция романа-эпопеи «Война и мир» построена как система концентрических кругов, которая охватывает всю область человеческой жизни – от личных и семейных проблем до исторических и народных. Эти масштабные проблемы личности и истории, народа и государства были поставлены теоретически и не нашли своего решения в произведении [15, с. 111]. Думается, надо учитывать, что художник Толстой решал эти проблемы не теоретически, а художественно, на основе собственной, художественной философии истории, опираясь на свою этическую концепцию. Сергеев-Ценский был преемником Толстого – и с точки зрения принципов работы над историческим материалом и документальными источниками, и с точки зрения исканий в области жанра, стиля, характерологии.
Сергеев-Ценский так определял жанр эпопеи и роль писателя, работающего в этом жанре: «Эпопея – произведение эпическое, поэтому, выступая в ней местами как лирик, художник слова должен перевоплощаться в людей другой эпохи, то есть становиться писателем-историком» [14, с. 254]. В сборнике «Трудитесь много и радостно», вышедшего ранее, определение эпопеи более полно: «В романе достаточно иногда бывает вывести только одно семейство, в эпопее необходимо дать жизнь всего народа. Но ведь если жизнь отдельного человека измеряется десятилетиями <…>, то жизнь народа – веками, иногда тысячелетиями. Изображая крупнейший исторический сдвиг в его жизни, подобный геополитическому, автор эпопеи не может не оглядываться при этом на другие, хотя и значительно меньшие, события в жизни народа» [13, с. 291–292].
Жанр масштабного батального полотна о Крымской войне (1853– 1856) писателем воспринимался именно как эпопея. Работа над «Севастопольской страдой» послужила прологом к огромной исторической эпопее «Преображение России». Сергеев-Ценский писал: «…так, мне, автору эпопеи “Преображения России”, перед тем как начать рисовать огромное полотно Первой мировой войны, пришлось задуматься над событиями аналогичными, над войною в пределах Крыма, который живописал я в первых двух романах эпопеи, войною, так и названной Крымской. <…> И вот, когда я писал третий (не по порядку) роман эпопеи – “Зауряд-полк”, действие которого происходит в Севастополе в первый год мировой войны, у меня зародилась мысль написать в виде подступа к эпопее “Преображение России” эпопею, названною впоследствии “Севастопольская страда”» [Там же, с. 254–255]. Писатель долго размышлял над судьбой страны, прежде чем начать работу, и, только написав роман «Массы, машины, стихии», сравнив общую политическую ситуа- цию в романе с ситуацией, в которой разворачивалось бы действие эпопеи и найдя их схожими («Западные державы нападали на Россию» [14, с. 257]), сел за работу.
Национальное предание, которое положено в основу этого произведения, связано у Сергеева-Ценского прежде всего с воспоминаниями отца, участника Крымской войны. Позднее в круг его чтения вошло «Описание обороны Севастополя» Тотлебена и другие книги домашней библиотеки, а также печатные мемуары участников войны, изданные в большом количестве 1870-е годы [13, с. 255]. Восприняв традицию устного предания о Крымской войне, писатель дополнил ее историческим материалом, поэтому с первых страниц эпопеи читатель погружается в атмосферу подготовки к обороне Севастополя.
Эпопея начинается главой «Бал» (что вызывает ассоциации с зачином «Войны и мира»). Бал проходит в состоянии тревоги и ожидания жителями Севастополя нападения на город союзных войск западных держав, читателя знакомят со знаковыми героями эпопеи. Подходы к изображению эпохи Николая I в творчестве Сергеева-Ценского осуществлялись и ранее. В 1925 году он пишет пьесу «Поэт и чернь» о дуэли Лермонтова с Мартыновым в Пятигорске, далее драму «Поэт и поэт», посвященную Лермонтову на фоне смерти Пушкина, затем пьесы о Пушкине «Милый омут» и «Приданое», изданные в двух частях, роман «Невеста Пушкина»; была написана пьеса «Гоголь уходит в ночь» о смерти Гоголя. Образ Николая I в этих произведениях не был подробно прописан, но эпоху писатель отразил отчетливо.
В «Севастопольской страде» Сергеев-Ценский не мог обойтись без изображения личности Николая I. Он изучил написанное о Николае I и его противниках – Наполеоне III, британской королеве Виктории, лорде Пальмерстоне и др. Писатель познакомился с общественно-экономическим состоянием Турции и стран Западной Европы: «…сопоставление общественной жизни во Франции, Англии и России. Так расширялась тема Крымской войны, и с каждым днем всё больше и больше людей возникало предо мною и просилось на страницы эпопеи» [14, с. 257–258].
Государи и полководцы изображены у Сергеева-Ценского как воплощение воинственности, как носители самой идеи войны, и в этом сказывается влияние толстовской традиции. В эпопее Николаю I посвящена первая глава второй части «Самодержец». Характеристика императора построена на батальных деталях и подробностях: «Великолепный фронтовик, огромного, свыше чем двухметрового, роста, длинноногий и длиннорукий, с весьма объемистой грудною клеткой, с крупным волевым подбородком, римским носом и большими навыкате глазами, казавшимися то голубыми, то стальными, то оловянными, император Николай I перенял от своего отца маниакальную любовь к военному строю, к ярким раззо- лоченным мундирам, к белым пышным султанам на сверкающих, начищенных толченым кирпичом, медных киверах; к сложным экзерцициям на Марсовом поле; к торжественным, как оперные постановки, смотрам и парадам; к многодневным маневрам, хотя и совершенно бесцельным и очень утомительным для солдата, но радовавшим его сердце картинной стройностью бравой пехоты, вымуштрованной кавалерии и уверенной в себе артиллерии – тяжелой, легкой, пешей и конной…» [12, с. 205]. Дополняет характеристику упоминание о событии 14 декабря 1825 года. Это восстание декабристов, свидетелем которого он стал. Именно это событие, по мнению Сергеева-Ценского, глубоко повлияло на внутренний мир Николая I, что выразилось в его резкой прямолинейности, а борьба с революцией, в какой бы форме и в какой бы стране она ни проявлялась, стала его навязчивой мыслью [Там же, с. 207].
Знакомство с Луи-Наполеоном происходит во второй главе второй части «Другой самодержец» [Там же, с. 233]. Сергеев-Ценский изобразил императора Франции через восприятие Николая I : «…новый император был изображен в военном мундире с эполетами, с одинокой звездой на левой стороне груди и с лентой через плечо… Его открытый, широкий, лысеющий лоб, его тяжелый взгляд человека, верящего в себя и не верящего никому, кроме себя, его горбатый орлиный нос, закрученные в две острые шпаги усы и узкая, длинная эспаньолка, уже узаконенная во французской армии (высший признак самодержавности монарха!)» [Там же, с. 257].
Даже королева Великобритании Елизавета описана в военной стилистике и воспринимается как олицетворение самой идеи войны: «… королева Виктория была или хотела быть самой воинственной дамой во всей тогдашней Европе. Когда отправлялись эскадры в Черное и Балтийское моря, она сама выезжала их провожать на своей королевской яхте. Матросы, взобравшись на реи, кричали ей “ура”, орудия на судах салютовали ей двадцатью одним выстрелом, и в грохоте выстрелов, и в криках, и в пороховом дыму на палубе своей яхты она воинственно махала платком отплывающим офицерам и матросам…» [Там же, с. 190].
Продолжая традиции, заложенные Л. Н. Толстым, Сергеев-Цен-ский вводит большое количество персонажей: «Кстати, во всей моей огромной эпопее почти совсем нет так называемых частных лиц, – все исторические, то есть попадавшиеся мне в мемуарах о том времени. Моя задача художника слова состояла в том, чтобы их имени сделать образ» [14, с. 262].
Сергеев-Ценский развивал вслед за Л. Н. Толстым поэтику батальных сцен и эпизодов. Он описывает двенадцать больших сражений и четыре генеральные бомбардировки Севастополя, «сохраняя и оттеняя при этом индивидуальные особенности, краски, детали каждого из этих крупных военных действий, создавая повествование исторически точным, запоминающемся» [6, с. 6]. В продолжение толстовской традиции вводится и необозримое пространство России. Основное действие разворачивается в осажденном Севастополе, но повествование выходит за пределы Крыма на Кубань, в курскую деревню, в Петербург, Москву, Париж, Лондон.
Еще одна традиция Толстого – в определении главного героя обороны Севастополя, русского народа. Этот обобщенный образ распадается на множество персонажей, выписанных ярко и впечатляюще, индиви-дуализированно. Это первая сестра милосердия Даша Севастопольская, матрос Кошка, крепостной крестьянин Чернобривкин и мн. др. В. Козлов пишет, что каждый из них – это «олицетворение народа-бойца, народа-труженика и воина, который отстаивал свою жизнь и право на жизнь на необъятных просторах своей Родины. В этой суровой борьбе проявились лучшие черты русского народа – мужество и храбрость, находчивость и бесстрашие» [5, с. 10–11].
Любимейшие исторические личности для автора эпопеи – вице-адмиралы В. А. Корнилов и П. С. Нахимов. Вот их появление на страницах произведения: «Но вот вошли вместе два Аякса флота – вице-адмиралы Корнилов и Нахимов, оба равного роста, высокие, узкоплечие, несколько сутулые, – мозг и сердце флота; Корнилов – в золотых аксельбантах генерал-адъютанта, отстающих при движении от его впалой груди, с Георгием в петлице и с Владимиром на шее. Нахимов – герой Синопа – с двумя Георгиями; оба русоволосые и светлоглазые; старший летами – Нахимов – старший из флагманов флота; Корнилов же – начальник штаба флота…» [12, с. 15]. Каждый из этих прославленных адмиралов сыграл важную роль в Первой обороне Севастополя, которая продлилась длилась 349 дней.
Таким образом, сам С. Н. Сергеев-Ценский определил жанр своей «Севастопольской страды» как эпопею и действительно продолжил традиции, заложенные Л. Н. Толстым. Крымская война было эпохальным событием, которое изменило жизнь царской России, о чём свидетельствуют реформы, проведенные Александром II в 1860-х годах. Поэтому, с одной стороны, оборона Севастополя – это кульминационный момент в Восточной войне, и она описана как героическое, грандиозное и одновременно общее деяние народа, вставшего на защиту не только города, но Отечества, и в этом проявляется эпическое начало в произведении. Другая сторона этого произведения в том, что писатель через призму Первой обороны Севастополя смотрит в будущее, предвидя грядущие события русской истории, пытаясь нащупать и отразить ее закономерности.
Говоря о традициях жанра эпопеи в произведении Сергеева-Цен-ского, не следует забывать и о той древнерусской литературной традиции, на которую опирался автор «Севастопольской страды», ведь даже заглавие произведения указывает нам на древнерусский контекст как один из возможных культурных контекстов, в котором следует воспринимать данную книгу [3]. Согласно работам С. Ю. Николаевой [7; 8; 9; 10], рассмотрение литературных произведений нового и новейшего времени в древнерусском литературном и культурном контексте позволяет глубже раскрывать авторскую концепцию, авторскую позицию. Обращаясь к «общенациональной топике», писатели по-новому «объясняют факты и явления современной действительности, осмысливают эти факты в широком контексте исторического бытия нации» [7, с. 250]. По мнению исследователя, «авторы произведений, опирающиеся на богатый духовный и эстетический опыт» древнерусской литературы, «решают проблемы русского национального характера», осмысливают их «с онтологической точки зрения, с учетом христианской (православной) системы ценностей и законов бытия, имеющей тысячелетнюю историю на Руси» [9, с. 41]. В связи с этим хотелось бы указать на знаменательную параллель между «Севастопольской страдой» Сергеева-Ценского и целым рядом эпических произведений древней Руси. В частности, напрашивается сопоставление со знаменитой «Повестью об осаде Троице-Сергиева монастыря» Авраамия Палицына, которое представляется важной перспективой данной работы.
Изучаемое произведение С.Н. Сергеева-Ценского незаслуженно предано забвению в наши дни, как, впрочем, и сам автор, и его творчество. Однако в конце 1930-х – начале 1940-х годов эпопея «Севастопольская страда» была поистине народным произведением. Об этом свидетельствуют документы (письма и отзывы читателей), хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства (фонд 1161 С.Н. Сергеева-Ценского). Тем важнее раскрыть сущность этого произведения как романа-эпопеи и вписать его в русский литературный контекст именно в этом качестве.
Список литературы Традиции жанра эпопеи в "Севастопольской страде" С.Н. Сергеева-Ценского
- Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 447-483.
- Беглов В.А. Эпопея в русской литературе ХIХ-ХХ вв.: становление и трансформации: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.01.01 / В. А. Беглов; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. М., 2006. 45 с.
- Воронцова Е.Е. Художественный потенциал заглавия эпопеи С.Н. Сергеева-Ценского "Севастопольская страда" // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2019. № 3. С. 119-124.
- Гордина Е.Д. Роль исторического романа советских писателей в утверждении в массовом сознании официальной концепции отечественной истории в 1930-е - первой половине 1940-х годов: автореф. дис. … докт. ист. наук: 07.00.02 / Е.Д. Гордина; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. Нижний Новгород, 2012. 44 с.
- Козлов В. Певец боевой славы русского народа // Козлов В. Витязи морей: исторические очерки, рассказы, новеллы, статьи. М.: Воениздат, 1985. С. 3-14.
- Критика Корнея Чуковского. О Сергееве-Ценском [Электронный ресурс] // Родная земля. 5(18) февраля 1907 года. URL: http://www.chukfamily.ru/kornei/ prosa/kritika/o-sergeeve-censkom. (Дата обращения: 17.08.2020.)
- Николаева С.Ю. Древнерусские памятники в литературном процессе (от Г.Р. Державина до Ю.П. Кузнецова): монография / Тверской гос. ун-т. Тверь, 2010. 252 с.
- Николаева С.Ю. Духовная реальность в поэмах Ю.П.Кузнецова "Молитва" и "Золотая гора" // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2009. № 2. С. 109-120.
- Николаева С.Ю. Жанровое своеобразие рассказа Ф.А. Абрамова "Из колена Аввакумова" // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2017. № 3. С. 41-48.
- Николаева С.Ю. О символике пейзажа в "Воскресении" Л.Н. Толстого // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2013. № 3. С. 78-85.
- Поддячая Н.А. Жанровое своеобразие прозы С.Н. Сергеева-Ценского 1900- 1920-х годов: дис. … канд. филол. наук: 10.01.01 / Н.А.Поддячая; Тамбовский гос. ун-т. Тамбов, 2006. 180 с.
- Сергеев-Ценский С.Н. Севастопольская страда: эпопея. М.: Худож. лит., 1955. 631 с.
- Сергеев-Ценский С.Н. Трудитесь много и радостно: Избр. публицистика. М.: Мол. гвардия, 1975. 334 с.
- Сергеев-Ценский С.Н. Талант и гений. М.: Современник, 1981. 319 с.
- Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы. Л.: Худож. лит., 1974. 360 с.
- Эпопея [Электронный ресурс] // Энциклопедия "Литература и язык". URL: https://topreading.ru/bookread/283404-izdatelstvo-rosmen-enciklopediyaliteratura-i/page-311. (Дата обращения: 17.08.2020.)