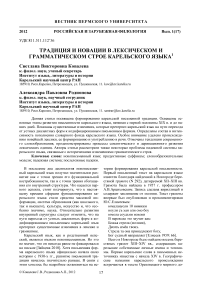Традиция и новации в лексическом и грамматическом строе карельского языка
Автор: Ковалева Светлана Викторовна, Родионова Александра Павловна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена формированию карельской письменной традиции. Освещены основные этапы развития письменности карельского языка, начиная с первой половины XIX в. и до наших дней. Показаны существенные изменения, которые претерпел карельский язык на пути перехода от устных диалектных форм к кодифицированным письменным формам. Определены состав и интенсивность пополнения словарного фонда карельского языка. Особое внимание уделено происхождению новейшей лексики, ее формированию и употреблению в речи. Отмечены тенденции современного словообразования, продемонстрированы процессы семантического и деривационного развития лексических единиц. Авторы статьи рассмотрели также некоторые проблемы падежной системы карельского языка, связанные с историческими изменениями грамматического строя.
Новописьменный язык, продуктивные суффиксы, словообразовательные модели, падежная система, послеложные падежи
Короткий адрес: https://sciup.org/14729075
IDR: 14729075 | УДК: 811.511.112'36
Текст научной статьи Традиция и новации в лексическом и грамматическом строе карельского языка
В последние два десятилетия новописьменный карельский язык получил значительное развитие как с точки зрения его функциональной востребованности, так и с точки зрения обогащения его внутренней структуры. Что касается первого аспекта, стоит подчеркнуть, что к настоящему времени сферами функционирования карельского языка стали средства массовой информации, система образования (как школьного, так и высшего), культура, искусство и, что особенно значимо, наука. Относительно развития внутренней структуры следует отметить, что на пути перехода от устных диалектных форм к кодифицированным письменным карельский язык претерпел существенные изменения в лексике и грамматике.
Карельский язык, как и родственный вепсский, является языком новописьменным. Но это не значит, что он никогда ранее не фиксировался на письме [Зайцева 2010]. Хотя письменная форма карельского языка официально начала свою историю с 1930-х гг., развитие письменной традиции началось значительно раньше. В связи с этим хотелось бы подробнее остановиться на ис- продуктивные суффиксы; словообразовательные тории формирования карельской письменности. Первый письменный текст на карельском языке известен благодаря найденной в Новгороде берестяной грамоте (N 292), датируемой XII–XIII вв. Грамота была найдена в 1957 г. профессором А.В.Арциховским. Запись сделана кириллицей и содержит заклинание от молнии. Текст грамоты впервые был опубликован и прокомментирован Ю.С.Елисеевым:
юмалануоли 10 нимижи ноули съ хан оли омо боу юмола соудьни иохови В переводе это звучит как: Божья стрела (молния), Десять имён твоих.
Стрела та она принадлежит богу,
Бог судный направляет [Елисеев 1959: 66].
Всего в Новгороде было найдено восемь берестяных грамот XIII–XIV вв., содержащих карельские собственные личные имена и топонимы. Первые карельские слова в письменных источниках известны с начала XIV в. Географические названия карельского происхождения встречаются в тексте Ореховецкого мирного до-
говора (1323 г.), например Кореломкошки, Сер-гилакши, Пуноярви. Карельские географические названия и личные имена встречаются в «Переписной окладной книге по Новгороду Вотцкой пятины 7008 г.» (1500 г. по новому летоисчислению), а также в «Писцовых книгах Обонежской пятины 1496 и 1563 гг.».
По мнению А.П.Баранцева, первая попытка создания письменности для карел «…была, видимо, предпринята в середине XVI в. Она была связана с миссионерской деятельностью православной церкви в Карелии» [Баранцев 1967: 91].
К ранним письменным памятникам карельского языка исследователи относят русско-карельские словарные записи XVII – начала XVIII вв. [Керт 2000: 19] и тексты людиковских заговоров из рукописного сборника. В 1778–1782 гг. была издана работа П.С.Палласа «Сравнительные словари всех языков и наречий», содержащая список из 273 карельских слов.
Печатные тексты на карельском языке появились только в первой половине XIX в. Это в основном были тексты духовного содержания. В начале XIX в. с целью укрепить православную веру среди карел «церковь стала публиковать духовную литературу на языке паствы» [ПФНР 2003: 194]. В 1804 г. Синод опубликовал в переводе на ливвиковское наречие карельского языка («олонецкий язык») «Перевод некоторых молитв и сокращенного катехизиса на корельский язык».
В 1820 г. на основе русского алфавита священником Вышневолоцкого уезда Тверской губернии Г.Е.Введенским и учителем Новоторж-ского училища М.А.Золотинским был сделан перевод Евангелия от Матфея (Герран мiäнъ Шюндю-руохтынан святой iовангели Матвъйшта карьялан кiелелля. Печатойду Святъйшего-Правительствующаго Синоданъ кяшшенняшта, Венiяген Библейскойнъ канжакуннан элолла. Пийтери, 1820 ).
В результате дальнейшего совместного труда переводчиков появилась рукопись карельского перевода Евангелия от Марка – Маркешта святой Jовангели [Макаров 1964: 176]. Полтора века эта рукопись хранилась в архивах. Рукопись содержит 37, 5 страниц, и текст ее написан с использованием русского алфавита того времени. К некоторым буквам добавлены значки для более точной передачи звуков карельского языка.
В 1870 г. в Петербурге на русском и карельском языках был издан «Карело-русский молитвенник для православных карелов», составленный Е.И.Тихоновым. В настоящее время молитвенник Тихонова считается лучшим по орфографии печатным изданием на сямозерском говоре ливвиковского наречия карельского языка.
С точки зрения грамматики карельского языка одним из лучших печатных изданий считается также книга А.Логиновского «Начала христианского учения», вышедшая в 1882 г.
В течение 1895–1897 гг. для карел Кемского уезда Архангельский епархиальный комитет издал несколько духовных книг. Среди них: «Краткая священная исторiя ветхого и нового завета на русскомъ языке с переводомъ на карельскiй язык» [Архангельск 1895], «Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея на карельском языке – Господанъ Мiäнъ Иисусанъ Христанъ Пюгя Евангели Матфейшта Каррья-ланъ кiелелля» [Архангельск 1896], «Господа нашего Иисуса Христа святого Евангелие от Марка на корельскомъ языке – Господанъ Мiäнъ Иисусанъ Христанъ Пюгя Евангели Маркешта карьялан кiелелля» [Архангельск 1896], «Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Иоанна на корельскомъ языке – Господанъ Мiäнъ Иисусанъ Христанъ Пюгя Евангели Ийва-нашта карьялан кiелелля» [Архангельск 1897]. На карельский язык их переводили М.Усердов, Н.Дьячков, К.Дашков, П.Преображенский.
В конце XIX в. в связи с открытием в некоторых волостях школ для карел появились первые учебные пособия и словари, также являющиеся, безусловно, письменными памятниками карельского языка. В 1887 г. был издан на основе кириллицы карельско-русский словарь «Родное карельское». В 1894 г. в Архангельске была опубликована «Азбука для кореловъ, живущихъ въ Кемском уъездъ Архангельской губернии». Азбука содержала упражнения для чтения и тексты молитв на карельском и русском языках.
В начале XX в., в 1908 и 1913 гг., были изданы два русско-карельских словаря: «Русско-карельский словарь» [СПб. 1908], «Викторъ Ко-ролевъ. Русско-корельский словарь» [Выборг 1913]. Словари были изданы для учителей, работающих в карельских деревнях Олонецкой губернии.
Большая работа по исследованию карельского языка была проделана финскими лингвистами. Поскольку письменных источников на карельском языке не так много, лингвистические описания с привлечением текстов на карельском языке представляют несомненную историческую ценность. Диалекты карельского языка изучал А.Генетц. В течение 1871 и 1872 г. «…он собирал лингвистический и фольклорный материал на территории Карелии, в результате чего им было опубликовано три дескриптивных исследования по основным наречиям карельского языка» [Зайков 2000: 8]. Собственно-карельскому наречию посвящена работа «Исследование о языке Русской Карелии» [Genetz 1880]. Описание лив-виковского наречия карельского языка содержится в «Исследовании языка олонецких карел» [Genetz 1885]. Наиболее характерные особенно- сти фонетики и морфологии людиковского наречия определяются в работе «Северные авангарды вепсов» [Genetz 1872]. «Своими трудами А.Генетц заложил основы научного кареловедения, которое впоследствии развивалось финскими и отечественными лингвистами» [Зайков 2000: 4]. Последующее внимание исследователей привлекали вопросы исторической фонетики карельского языка. Среди трудов финских лингвистов можно упомянуть работы Х.Оянсуу. Ю.Куела, Х.Лескинена. В 1934 г. был издан сборник людиковской речи, подготовленный Х.Оянсуу, Ю.Куела, Ю.Калима и Л.Кеттуненом.
Наиболее известным фольклорным памятником является эпос «Калевала», в процессе письменной фиксации которого карельский язык памятника претерпел некоторые изменения, внесенные ее автором Э. Леннротом.
В целом, можно констатировать, что к началу XX в. карельский язык имел статус бесписьменного языка и функционировал как средство бытового общения, традиционной хозяйственной деятельности и фольклорной культуры.
Собственно письменная традиция возникла в 1930-е гг. – в период «культурной революции». Первый опыт создания карельской письменности был связан прежде всего с именем известного ученого-лингвиста Д.В.Бубриха. В конце 1937 г. был утвержден алфавит карельского литературного языка на основе русской графики письма и издана разработанная проф. Д.В.Бубрихом грамматика карельского языка. В это время учеными-лингвистами были написаны учебные пособия для школ; по карельскому языку учебники готовились Д.В.Бубрихом, Н.А.Анисимовым, А.А.Беляковым и др. Работы Д.В.Бубриха с самого начала отличала уверенность в исторической самостоятельности карельского языка. Ученый показал независимость развития языкового строя в целом. Тем самым было дано обоснование для создания письменности. Однако опыт создания письменности на карельском языке в 30-е гг. прошлого столетия успехом не увенчался, а письменная традиция была прервана на долгие годы.
Возрождение карельской письменности началось в конце 1980-х гг. На фоне типичного для всей страны во второй половине 1980-х гг. бурного всплеска общественно-политической активности в Карелии впервые за долгие годы открыто заговорили о решении языкового вопроса. Этот период характеризуют сейчас как «языковую революцию».
Особенности функционирования карельского языка в домашне-бытовой сфере общения на протяжении многих десятилетий обусловили естественное развитие тех групп лексики, которые отражали в основном хозяйственный уклад жиз- ни карел. Тем не менее, говоря о неразвитости терминологии карельского языка в целом, следует указать на то, что некоторые тематические группы терминов существуют уже давно.
Например, система терминов родства, богато развитая у всех групп карел, используется и в настоящее время: muamo ‘мама’, tuatto ‘папа’, tütär ‘дочь’, poigu ‘сын’, velli ‘брат’, sizär ‘сестра’, veikki ‘старший брат’, čidži ‘старшая сестра’, buabo ‘бабушка’, diedo ‘дедушка’, sulhaine ‘жених’, mučoi ‘жена’, ukko ‘муж’ (примеры из ливвиковского наречия). Достаточно полной представляется система анатомических терминов: aivot ‘мозг’, bokku ‘бок’, agari ‘мизинец’, agarivarvas ‘мизинец ноги’, ezisormi ‘указательный палец’, gurbu ‘горб’, hammas (hammaz) ‘зуб’, hengi ‘дыхание’, hengikeroi ‘дыхательное горло’, hibjü (hibdü, hobie) ‘кожа’, huuli ‘губа’, huogain ‘ноздря’, igen ‘десна’, ilme ‘лицо’, jalgu ‘нога’, jallanpohju ‘подошва ноги’, kainalo ‘подмышка’, kaglu ‘шея’, kaluin ‘запястье’, kandu ‘пятка’ и т.д.
В карельском языке широко представлены также следующие лексические группы:
названия домашних животных: lehmü ‘корова’, vaza ‘теленок’, häkki ‘бык’, lammas ‘овца’, bošši ‘баран’, vuonu ‘ягненок’, hebo ‘лошадь’, sälgü ‘жеребенок’, uveh ‘жеребец’, hebočču ‘кобыла’, počči ‘свинья’, koiru ‘собака’, kaži ‘кошка’, kudžu ‘щенок’;
названия диких животных: kondii ‘медведь’, reboi ‘лиса’, hukku ‘волк’, jänöi ‘заяц’, hirvi ‘лось’, majai ‘бобр’, oravu ‘белка’, sagarvo ‘выдра’, ilves ‘рысь’, hiiri ‘мышь’, rottu ‘крыса’, čubuhiiri ‘полевка’ ;
названия птиц: kurgi ‘журавль’, joučen ‘лебедь’, sorzu ‘утка’, kuikku ‘гагара’, harakku ‘сорока’, varoi ‘ворона’, kottaraine ‘скворец’, peiboi ‘зяблик’, koppali ‘глухарка’, tedri ‘тетерев’, kiuru ‘жаворонок’ ;
названия растений: ohtoi ‘осот’, veziheinü ‘ряска’, imiččü ‘дикий клевер’, majaiheinü ‘мать-и-мачеха’, kägöinpelvas ‘кукушкин лен’, kordeh ‘тростник’, kečoiheinü ‘белоус’ .
По происхождению карельскую лексику можно подразделить на исконную и заимствованную. Основной словарный фонд всех финно-угорских языков (в том числе и карельского) составляют слова уральского и финно-угорского происхождения. К более поздним слоям общего словарного состава финно-угорских языков относятся финно-пермский, угорский, финно-волжский, пермский, волжский и прибалтийский. Древнейший слой лексики образуют слова уральского происхождения. В карельском языке это: jogi ‘река’ (ср. вепс. jogi, d'ög´i; эст. jõgi) [SSA 2001: 240], kala ‘рыба’, koda ‘дом’, mua ‘земля’, repo ‘лиса’ и т.д. К лексике финно-угорского проис- хождения относится большинство слов, обозначающих части тела (korva ‘ухо’, ср. вепс. korv, эст. kõrv) [SSA 2001: 408], природу (kašše ‘роса’, laineh ‘волна’), растения (garbalo ‘клюква’, mändü ‘сосна’), животных, физическую деятельность (aštuo ‘ступать’, noušša ‘вставать’), физиологические и психические явления (nagrua ‘смеяться’, itkie ‘плакать’, kivistä ‘болеть’), наименования качеств (avo ‘открытый’, kova ‘твердый’, lühüt ‘короткий’), земледелие и скотоводство (kündä ‘пахать’, kürzü ‘краюха хлеба’, nagris ‘репа’, ozra ‘ячмень’), жилище и постройки (katoš ‘крыша’, lagi ‘потолок’, paja ‘кузница’), домоводство и рукоделие (kovazin ‘оселок’, ommella ‘шить’), движение и средства транспорта (jallaš ‘полоз’, ohjaš ‘вожжа’), семью, родственников (pereh ‘семья’, šugu ‘род’), а также общественную жизнь (keräjä ‘собрание деревни’ и т.д.).
В карельском языке присутствует также слой субстратной лексики, данные которой свидетельствуют о самостоятельном развитии языка, например, külü ‘баня’, ruohka ‘сырой’, ailaš ‘боль, горе’.
Заимствованную лексику в карельском языке составляют индоевропейские, балтийские, германские, славянские, шведские и русские элементы. Из заимствований одними из наиболее древних принято считать балтийские заимствования : lohi ‘лосось’, herneh ‘горох’, lauda ‘доска’, voagie ‘свая’, aiza ‘оглобля’, halla ‘заморозки’, karva ‘волос ’ и т.д. Общих слов балтийского происхождения в прибалтийско-финских языках насчитывается более 200 [Häkkinen 1990: 243]. Несколько позднее в прибалтийско-финские языки пришли германские заимствования. В карельском языке это: adra ‘плуг’, peldo ‘поле‘, merda ‘мережа’, kattila ‘котел’, niegla ‘игла’, kulda ‘золото’, laihina ‘заем’ и т.д. К старым славянским заимствованиям относятся, например, azrain ‘острога’, pagana ‘язычник’, pappi ‘священник’ и т.д.
Если рассматривать отдельные тематические группы лексики, то, например, доля заимствований в системе зоонимической лексики карельского языка составляет 16% общего числа зоосе-мизмов. Представлены они в основном названиями домашних животных в связи с тем, что прибалтийско-финские народы переняли животноводство у индоиранских и индоевропейских племен. Древнейшие заимствования относятся к довольно длительному периоду соседства финно-угорских народов с индоевропейскими племенами [Жаринова 2006: 8–10]. К данной группе заимствованных лексем относятся siga ‘свинья’, uuhi ‘овца’, rotta ‘крыса’, vilja ‘зверь, добыча’, tamma ‘кобыла’ и др. В последующие периоды пополнение зоонимической лексики карельского языка происходит из балтийского праязыка – vuohi ‘козел’, hirvi ‘лось’, из германского языка – lammas ‘овца’, pukki ‘козел’, hukku ‘волк’, из древнеславянского языка – zvieri ‘зверь’, bobru ‘бобр’, из шведского языка – passi ‘баран’, из саамского языка – kosotus ‘олень’ [там же].
Из народных названий болезней в карельском языке наибольшее количество заимствований приходится на славянские, что связано с длительным контактированием карельского и русского этносов, например, kila, kilo ‘грыжа’, nikoites, nikoitus ‘икота’ [Пашкова 2008: 17].
Современный карельский язык пополняется заимствованиями в основном из русского языка как наиболее мощного сосуществующего идиома, и из финского языка как близкородственного.
Среди русских заимствований – viero ‘верование’, rossi ‘брошь’ (с.-кар.), kluassu ‘класс’, ručku ‘ручка’, rajonu ‘район ’ (лив.); из финских заимствований в ливвиковском наречии – ilmoitus ‘объявление’ (фин. ilmoitus ), muodo ‘форма’ (фин. muoto ), luondo ‘природа’ (фин. luonto ), luonneh ‘характер’ (фин. luonne ); в собственнокарельском наречии – takavarikoija ‘конфисковать’, osuuskunta ‘кооператив’, luotto ‘кредит’ и т.д.
Достаточно частым в современном карельском языке стало употребление интернациональной лексики, заимствованной главным образом через русский. Так, например, из общего состава общественно-политической лексики на ливви-ковском наречии, зафиксированной в бюллетенях республиканской термино-орфографической комиссии, более 40% составляют интернациона-лизмы. Среди слов-интернационализмов – dokumentu, projektu, aspektu, indeksu, bogiemu. Особенностью употребления заимствований становится тот факт, что вновь созданные слова из собственных элементов карельского языка зачастую имеют дублетный вариант, обычно – интернационализм, заимствованный через русский язык, например, ‘саммит‘ – ülinkerähmö и sammittu; ‘траулер’ – merinuotanvedäi и trauleri.
Для одних и тех же лексем в наречиях карельского языка в некоторых случаях находятся различные эквиваленты, например: ‘инстинкт’ vainu, tundo (собственная лексема в лив. ) и instinkti (интернационализм в с.-кар. ), ‘интуиция’ süväin/iäni (собственная единица в лив. ) и intuitijo (интернационализм с.-кар. ), ‘интенсификация’ intensiivistämine (интернационализм в лив. ) и tehostamini ( с.-кар. ; ср. фин . tehostaminen ).
К моменту воссоздания письменности на карельском языке практически совершенно отсутствовали слова, отражающие реалии современной общественной жизни. Именно эта пустующая ниша стала постепенно заполняться неологизмами.
Лексический состав карельского языка пополняется многочисленными новообразованиями, в последние два десятилетия получили развитие отраслевые тезаурусы – например, школьная лексика, общественно-политическая и лингвистическая терминология. Интенсивному развитию лексики способствует достаточно развитая словообразовательная система карельского языка, при создании новых слов широко используются традиционные продуктивные суффиксы. Именно суффиксальный способ стал наиболее предпочтительным в современном словообразовании при создании терминов и слов, близких по значению к терминологической лексике. При этом в сферу наибольшей продуктивности попали суффиксы, образующие слова абстрактного и обобщенного значения, т.е. ту лексику, в которой язык остро нуждался в связи с расширением его функционального пространства, например, -us, -üs; -hus, -hüs; -vus, -vüs: hendovus ‘субтильность’ < hendo ‘слабый’, ühtehüs ‘всеобщность’ < ühtehine ‘общий’ [Ковалева, Родионова 2008: 244–249]. Исключительно живым в современном языке оказался один из древнейших и наиболее распространенных суффиксов -niekku, который является практически единственным заимствованным суффиксом в карельском языке, поскольку языковая словообразовательная система в целом достаточно закрыта для иноязычных влияний. Суффикс продуктивно используется в создании дериватов со значением какого-либо рода деятельности: vuoroniekku ‘сменщик’, virguniekku ‘служащий’, valgotehniekku ‘светотехник’. Продуктивный исторически в топоним-ном словообразовании -l-овый суффикс в карельском языке активно участвует в настоящее время в образовании новой апеллятивной лексики, например, syömäl ‘столовая’, hommal ‘агентство’ и т.д.
Распространенным способом образования новых лексем является словосложение. Новые сложные слова относятся по преимуществу к разряду имен существительных . В зависимости от происхождения составных частей сложные слова представляют собой сложение двух (или более) исконных слов: loppu/kado ‘апокопа’, virgu/üldö ‘карьера’, soda/kügü ‘боеспособность’ ; исконного слова и заимствованного: sugu/termin ‘термин родства’, arhiiva/tieto ‘археография’, netäli/kirja ‘еженедельник’ ; двух (или более) заимствованных слов: kul΄tuuru/keskus ‘культурный центр’ kukla/teatteri ‘вертеп’.
Помимо морфологического способа получил распространение также лексико-семантический способ образования новых слов, который подразумевает изменение семантики слова. Карельский язык отличает чрезвычайная образность, богатство фразеологии, поэтому использование метафоры в языке – вообще достаточно типичное явление, например, kuldaine sügüzü ‘золотая осень’, kuldaine elo ‘золотая жизнь’, kuldaine ristikanzu ‘золотой человек’. В карельском языке метонимические переносы используются, например, при употреблении с предметным значением ряда первоначально отвлеченных существительных: muanjäraitüksen vägevüs ‘мощность землетрясения’ и motoran vägevüs ‘мощность двигателя’. Процесс образования предметных значений связан с общим для многих языков процессом создания терминов для ряда производственных, технических и других понятий. Поэтому во втором случае (motoran vägevüs) можно говорить о терминологизации основного значения абстрактного слова.
В рамках лексико-семантического способа словообразования возможны внутренняя дифференциация значения слова, переосмысление значения, расширение или, наоборот, сужение значения.
Расширение семантики произошло у имен прилагательных:
В ливвиковском наречии : jürkü ‘категоричный’ (первое значение ‘крутой, решительный’), ounas ‘изощренный’ (старое значение ‘хитрый, ловкий’), hieno ‘изысканный’ (первое значение ‘тонкий’), huigietoi ‘аморальный’ (первое значение ‘бессовестный’);
в собственно-карельском наречии : jäykkä ‘малоподвижный’ (старое значение ‘тугой, негибкий’), väkövä ‘концентрированный’ (старое значение ‘сильный, крепкий’), kipakka ‘импульсивный’ (старое значение ‘злой, вспыльчивый’).
Значения некоторых глаголов также подверглись дифференциации, например:
– в ливвиковском наречии: suittua ‘аккумулировать’ (первое значение ‘собирать, копить’), miärätä ‘квалифицировать’ (первое значение ‘мерить’), selittiä ‘интерпретировать’ (старое значение ‘выяснять, разбирать’), ühtistiä ‘инкорпорировать’ (первое значение ‘соединять’);
– в собственно-карельском наречии: hävittyä ‘аннулировать’ (прежнее значение ‘истреблять, уничтожать’), esitellä ‘аннотировать’ (первое значение ‘знакомить’), luatiutuo ‘лицемерить’ (первое значение ‘притвориться’), muanittua ‘искушать’ (первое значение ‘заманивать’).
Приведенные примеры подтверждают способность карельской лексики к многозначности. В процессе семантического и деривационного развития старые карельские слова приобретают новые семантические оттенки, а в отдельных случаях – новые значения. В рамках данного способа образования новых слов можно говорить о разнице этимологических и актуальных деривационных значений, когда лексемы приобретают современное звучание.
Способы словообразования дают огромный простор деятельности, но мерой, ограничивающей этот массив, должен стать предел принятия людьми новых слов. Нельзя допустить того, чтобы старая лексика была подавлена новой. В связи с этим для исследователя важнейшей задачей является регулирование процессов в языках с точки зрения соотношения теории и практики. Этому могут способствовать беседы с носителями языков, различные исследования, в том числе социолингвистические.
Что касается грамматического строя карельского языка, то в своем историческом развитии он претерпел серьезные изменения, которые связаны как с собственными историческими судьбами, так и с влиянием неродственных и родственных языков, особенно вепсского, влияние которого на становление ливвиковских говоров особенно существенно (см.: [Бубрих 1947; 1948; Itkonen 1993: 112–143]). Результаты этого развития сказались на отпадении и преобразовании конечных гласных звуков, что, в свою очередь, нашло отражение в ливвиковской падежной системе, из которой выпали (или совпали по форме) некоторые падежные формы: инессив-элатив, адессив-аблатив и аллатив.
В употреблении конечных гласных в абсолютном конце слова в прибалтийско-финских языках произошли большие изменения [Хямяляйнен 1963: 12]. Эти изменения различно представлены как внутри отдельных языков, так и в наречиях карельского языка. В большинстве лю-диковских говоров первичные конечные гласные, как и в вепсском языке, отпали; в части лю-диковских говоров конечные a , ä в определенных случаях переходят в е (akk(e) ‘женщина’, pahk(e) ‘шишка’ . В ливвиковских же говорах гласные i , o , ö , u , y сохраняются, а гласные a , ä в конечной позиции переходят в u , y ( akk u ‘ женщина’ , pahk u ‘ шишка ’). Как свидетельствуют исследования по исторической фонетике прибалтийско-финских языков, названное явление проходило через ряд ступеней, одна из которых могла привести и к отпадению звуков через их редукцию ( mečäs ‘в лесу’, ср. фин. metsässä; lat’t’iel ‘на полу’ ср. фин. lattialla и т.д.).
В ливвиковском наречии в процессе исторического развития, в случае, если предшествующий слог был краткий открытый, конечные a , ä сохранились в четносложном (например, двусложном) слове и исчезли в нечетносложном (например, трехсложном слове); если же предшествующий слог был долгий или закрытый, то конечные гласные a , ä перешли в u , y . Например, в словах kal a ‘рыба’, iž ä ‘отец’ первичная конечная гласная в двусложных словах с предшествующим кратким открытым слогом сохранилась, в примерах другого рода – huab u ‘осина’
(ср. финск. haapa ), händ y ‘хвост’ (ср. финск. häntä ), ižänd y ‘хозяин’ (ср. финск . isäntä ) – конечные гласные a , ä перешли в u , y , как об этом свидетельствовали приведенные примеры [Хямяляйнен 1963: 12–13].
Такая же картина характерна и для вепсского языка. В отличие от ливвиковского наречия, в вепсском языке первичная конечная гласная, так же как и в части людиковских говоров, выпадает (напр. ižand ‘хозяин’ ). По мнению М.М.Хя-мяляйнена, следует думать, что там, где у ливви-ков мы находим u , y , у людиков – частью е , а частью отсутствие конечной гласной, в вепсском языке –“нуль”; все они в свое время были промежуточными результатами редукции. Еще Д.В.Бубрих высказывал мнение по поводу того, что конечные гласные a , ä не перешли непосредственно в u , y в ливвиковском наречии или в е в части людиковских говоров карельского языка и не отпали непосредственно в вепсском языке и части людиковских говоров, а вначале редуцировались, а только потом отпали.
Иначе смотрит на развитие конечных гласных a , ä Х.Оянсуу. Он полагает, что звуковые изменения a > u, ä > ü произошли через промежуточную ступень a > o, ä > ö. В одних говорах сохранились o, ö, в других они развились в u , y [Ojansuu 1918: 131–134, 159–161], например, сравните в ливвиковском наречии: akk u , nahk u , ižänd y , ristikanz u и в кондушском говоре собственно-карельского наречия: akk o , nahk o , ižänd ö (см., например: [Зайков 2000: 21–26]).
Переход a , ä в u , y в ливвиковском наречии коснулся также отдельных падежных и причастных форм: партитива в словах с согласной основой, например, huul du (ср. финск. huul ta ) ‘губы’ , а также эссива, например, opastaja nnu (ср. финск. opettaja na ) ‘учителем’ , köyhä nny (ср. финск. köyhä nä ) ‘бедным’ ; juo ju ‘пьющий’ (ср. фин. juov a ); kačotta vu ‘рассматриваемый’ (ср. фин. katsottava ).
Переход a, ä в u, y в ливвиковских говорах исследовал финский историк языка Э.А.Тункело. Он обращал внимание на то, что в южнокарельских рунах иногда имеют место случаи перехода a, ä в u, y даже в окончаниях инессива и адесси-ва, например, metsässy ‘в лесу’, karzinassu ‘в подполье’, mäelly ‘на горе’ [Tunkelo 1946]. Однако необходимо отметить, что конечные гласные a, ä в окончаниях внутренне-местных и внешнеместных падежей (прежде всего мы имеем в виду формы падежей инессива и элатива, адессива и аблатива), в отличие от партитива и эссива, в ливвиковском наречии (так же, как и в людиков-ском наречии) в обычной речи отпадают и никогда не переходят в u, y. Во внешне-местных падежах отпадают не только первичные a, ä (например, emännäl ‘у хозяйки’ < emännällä), но да- же непервичное е: emännäl (< emännälle < emännällen ~ emännällek ‘хозяйке’) [Хямяляйнен 1963: 15]. Это поразительное историческое явление двойственности поведения ливвиковского наречия в отношении перехода -a, -ä в -u, -y в конце слова у различных форм до сих пор остается не выясненным до конца. Можно предположить, что вепсский язык стал катализатором процесса двойственности. Исчезновение конечных гласных в нем происходило достаточно последовательно и касалось всех форм, в том числе и форм местных падежей, в которых в ливвиков-ском наречии мог бы произойти переход -a, -ä в -u, -y, как это произошло в формах партитива и эссива, и тем самым формы местных падежей могли бы сохраниться. Тем не менее этого не случилось, и ливвиковское наречие пошло по пути вепсского языка, т.е. по пути слияния отдельных форм местных падежей в результате отпадения звуков.
Таким образом, произошло слияние некоторых падежных форм, из-за чего изменился падежный состав ливвиковского наречия карельского языка. Утратив конечные гласные - а , - ä , а также и один из конечных согласных звуков, названные падежи старого образования совпали в языке по форме: инессив совпал с элативом, а адессив – с аблативом, и даже в некоторых диалектах с аллативом (см., напр.: [Хайду 1985: 96]). Аллатив со значением места, на которое направлено действие, встречается как в ливвиковском, так и людиковском наречиях. В собственнокарельском наречии значение направленности является одним из значений объединенного падежа адессива-аллатива (см., напр.: [Зайков 1999: 44]). Возможно, в данном случае для карельского языка (в отличие, например, от вепсского) семантика падежа была менее важна, чем семантика глагола. Глагол в карельском языке, обладая сильной семантикой, в словосочетании сам определяет как статичность ( Olla järve llä ‘Быть на озере’), так и направленность действия в пространстве ( Mennä järve llä ‘Идти на озеро’).
Что же касается значений новейших падежных форм в карельском языке, то если их сравнить со значениями подобных старых падежных форм в других прибалтийско-финских языках (прежде всего финском), можно заметить, что они не вполне совпадают: в карельском языке окончания элатива -späi и окончание аблатива -lpäi употребляются только в том случае, когда речь идет о явной исходности, т.е. когда видно, что что-то откуда-то приближается, удаляется, достается и т.д.: Minä tulin laukaspäi ‘Я пришел из магазина’; Miša tänäpäi tuli hüväs mieles školaspäi ‘Миша сегодня вернулся из школы в хорошем настроении’; A iče ülen hil’l’akazin loittonou kohtaspäi ‘А сам потихонечку отходит все дальше от места’; Anuksespäi Petroskoissah on 158 kilometrii, a Priäžäspäi vai 50 kilometrii ‘От Олонца до Петрозаводска 158 километров, а от Пряжи всего 50’; Lopul keziä lapset tuldih kezäleirilpäi da mendih ogorodua kaččomah ‘В конце лета дети вернулись из лагеря и отправились посмотреть на огород’; Hüö ühtes lähtiettih bazarilpäi ‘Они вместе пошли с рынка’.
В том же случае, когда явная исходность отсутствует, новый послеложный падеж не употребляется. В этом случае сохраняется употребление исторической формы элатива, которая совпала с инессивом, и формальных оснований для выделения ее в качестве элативной уже не существует. Думается, что в этом случае можно говорить о синкретизме падежей ливвиковского наречия, когда старые формы элатива и аблатива (и отчасти аллатива), совпав по форме с инесси-вом и адессивом, оставили последним и часть своих значений, в свою очередь, отразившись и на уровне синтаксиса, расширив, таким образом, круг глагольного управления и отчасти изменив его.
Конечно, как и все новое, послеложные падежи пока не выглядят до конца сформировавшимися. При употреблении их в адъективноатрибутивных конструкциях, в которых в прибалтийско-финских языках существует, за некоторыми исключениями, полное согласование, наблюдается нарушение традиции: прилагательное чаще всего сохраняет историческую форму элатива или аблатива, совпавшую с инессивом и элативом, например, suure s mečä späi ‘из большого леса’.
Связанные с процессами стандартизации и унификации новописьменного карельского языка, изменения в его внутренней структуре отражают современное языковое состояние и развитие. При этом, как видим, востребованные современностью новации гармонируют с богатыми языковыми традициями.
Secretary for Science
Institute of Linguistics, Literature and History
Karelian Research Center Russian Academy of Sciences
Alexandra P. Rodionova
Research Fellow
Institute of Linguistics, Literature and History
Karelian Research Center Russian Academy of Sciences
Список литературы Традиция и новации в лексическом и грамматическом строе карельского языка
- Баранцев А.П. Карельская письменность//Прибалтийско-финское языкознание: вопр. фонетики, грамматики и лексикологии. Л., 1967. С.90-104.
- Бубрих Д.В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947. 43 с.
- Бубрих Д.В. Сравнительная грамматика финно-угорских языков в СССР//Учен. зап. ЛГУ. Сер. востоковедческих наук. 1948. Вып. 2. 34 c.
- Елисеев Ю.С. Древнейший письменный памятник одного из прибалтийско-финских языков//Изв. АН ОЛЯ. 1959. Т.18, вып.1. С.65-72.
- Жаринова О.М. Зоонимическая лексика карельского языка: автореф. дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2006. 22 c.
- Зайков П.М. Глагол в карельском языке. Петрозаводск, 2000. 294 c.
- Зайков П.М. Грамматика карельского языка (фонетика и морфология). Петрозаводск, 1999. 120 c.
- Зайцева Н.Г. Диалектная основа вепсской орфографии. URL: www.vepsia.ru/yazik/dialekt.php (дата обращения: 29.09.2011)
- Керт Г.М. Очерки по карельскому языку. Петрозаводск, 2000. 55c.
- Ковалева С.В., Родионова А.П. Формирование норм новописьменного карельского языка на материале лексики и грамматики//Изв. Самар. науч. центра РАН. 2008. №2. С.242-251.
- Макаров Г.Н. Карельская рукопись полувековой давности//Вопр. фин.-угор. языкознания. Грамматика и лексикология. М., Л., 1964. С.176-185.
- Пашкова Т.В. Народные названия болезней в карельском языке: автореф. дис. … канд. филол. наук. Петрозаводск, 2008. 23 c.
- ПФНР -Прибалтийско-финские народы России. М., 2003.
- Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985. 432 c.
- Хямяляйнен М.М. О развитии гласных в конце слова в карельском и вепсском языках//Прибалтийско-финское языкознание. М.; Л., 1963. С.12-22.
- Genetz A. Tutkimus Aunuksen kielestä. Helsinki, 1885. S.3-194.
- Genetz A. Tutkimus Venäjän Karjalan kielestä. Kielennäytteitä, sanakirja ja kielioppi. Helsinki, 1880. 254 s.
- Genetz A. Wepsän pohjoiset etujoukot//Kieletär I: 4. Helsinki, 1872. S.3-32.
- Häkkinen K. Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa. Helsinki: SKS, 1990. 326 с.
- Itkonen T. Aloja ja aiheita. Helsinki: SUS 216, 1993. 387 с.
- Ojansuu H. Karjala-aunuksen äännehistoria. Helsinki: SKS, 1918. 182 с.
- SSA -Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. I. A-K. Helsinki: SKS, 2001. 486 с.
- Tunkelo E.A. Vepsän kielen äännehistoria//SKST, 1946. Оsa 228. 44 с.