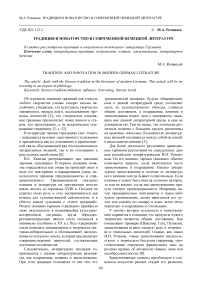Традиция и новаторство в современной немецкой литературе
Автор: Романюк Мария Андреевна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены традиции и современные тенденции в литературе Германии.
Литературная традиция, подражание, влияние, заимствование, литературное течение
Короткий адрес: https://sciup.org/148180683
IDR: 148180683 | УДК: 821.112.2
Текст научной статьи Традиция и новаторство в современной немецкой литературе
Об огромном значении традиций как стимуле любого творчества ученые говорят весьма настойчиво, утверждая, что культурное творчество знаменуется, прежде всего, наследованием прошлых ценностей [2], что «творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание отмершему [3, с. 52].
В литературе термин «традиция» (лат. tradere – передавать) не имеет однозначного толкования и применяется как по отношению к преемственной связи, объединяющей ряд последовательных литературных явлений, так и по отношению к результатам такой связи [6].
В.Е. Хализев разграничивает два значения термина «традиция». В первом значении понятие определяется как опора на прошлый опыт в виде его повторения и варьирования (здесь используются термины «традиционность» и «традиционализм»). Традиционализм оказывал влияние в литературе на протяжении многих веков, вплоть до середины XVIII в. Позднее он утратил свою роль и стал восприниматься как помеха для художественной деятельности, и в обиход вошли суждения о «гнете традиций». Второе значение термина «традиция» приобрело свою актуальность в изменившейся культурноисторической ситуации, когда обрядово-регламентирующее начало стало сводиться к минимуму (особенно в XX в.). Под «традицией» стали понимать инициативное и творческое (активно-избирательное и обогащающее) наследование культурного опыта, который предполагает совершенствование ценностей, составляющих достояние человечества.
Следовательно, литературная традиция соприкасается с такими литературными явлениями, как подражание, влияние и заимствование. При этом традиция отличается от них тем, что традиционный материал, будучи общепризнанным в данной литературной среде, составляет часть ее художественного обихода, ставшую общим достоянием, а подражание, влияние и заимствование имеют дело с материалом, лежащим вне данной литературной среды и еще не усвоенным ею. Тем не менее, эти логически различные понятия с большим трудом различимы на практике, поскольку большинство литературных явлений соединяется между собой не одной, а несколькими связями [5].
Для более детального различения приведенных терминов рассмотрим их определения, данные российским литературоведом И.Н. Розановым. По его мнению, термин «влияние» обычно понимается широко, сюда включаются часто заимствование и подражание. Однако литературное заимствование в отличие от литературного влияния всегда бывает сознательным. Если влияние и может быть иногда осознано автором, то или не вполне, тогда как заимствованию присущ элемент преднамеренности. Например, автор предварительно вчитывается в какое-либо чужое произведение, желая напитаться его духом или усвоить его манеру и язык, затем легко переходит в подражание и стилизацию.
У многих авторов склонность к заимствованию коренится в сознании, что продукты чужого творчества являются общим достоянием. Как показывают примеры (Шекспир, Гете, Пушкин), заимствования играют видную роль в творчестве и гениальных писателей. Однако, как писал И.Н. Розанов, «чаще заимствования свидетельствуют о творческом бессилии (например, многочисленные переделки французских пьес на русские нравы), об авторской спешке, лени или недобросовестности» [8].
Заимствованные сюжеты преобладали в словесном искусстве ранних стадий его развития, вплоть до эпохи Возрождения и классицизма. Творчество эпических и драматических писателей являло собой обработку сюжетов, восходящих к предыдущим эпохам, к народному творчеству, к мифологии. Большинство драматических произведений Шекспира основано на сюжетах, давно знакомых средневековой европейской литературе. Традиционные сюжеты человечества (прежде всего античные) широко использовались также классицистами: Расином, Мольером, Ломоносовым, Гете [9].
В литературе последних столетий, особенно в творчестве писателей-реалистов, на первый план выдвигаются вновь созданные, оригинальные сюжеты. Однако заимствованные из предшествующей литературы сюжеты продолжают играть значительную роль. Так, мотивы легенды о чернокнижнике Фаусте, восходящие к немецкому средневековью, дали человечеству в XIX в. гетевского «Фауста», а в XX в. – роман Т. Манна «Доктор Фаустус». Широко используются в литературном творчестве также сюжеты фольклорные, античные, библейские, евангельские. Опираясь на уже известные литературе сюжеты, писатели и поэты ставили и ставят глубокие нравственно-философские проблемы. Порой они художественно воплощают широкие обобщения, сопоставляя друг с другом (как по сходству, так и по контрасту) явления разных исторических эпох. Наиболее часты заимствования характеров, положений и текстуальные. В поэзии особенно большое значение имеют заимствования звуковые: размеров, ритма и рифм [6].
Подражание отличается от заимствования тем, что здесь особенно важен элемент сходства, а в заимствовании центр тяжести лежит на собственной переработке. Подражание вытекает из желания приблизиться к образцу, сравняться с ним или превзойти. В некоторых случаях подражание внешним приемам граничит со стилизацией. Литературная традиция нередко переплетается с влиянием, подражанием и заимствованием одновременно, например, поэзия М.Ю. Лермонтова отображает, с одной стороны, байроновскую традицию, вошедшую в русскую литературу через А.С. Пушкина, с другой же стороны, представляет собой ряд непосредственных подражаний Байрону [5].
Материалом литературной традиции могут служить многие элементы прозы и практически все элементы поэтики: тематика, композиция, стилистика, ритмика. Однако чаще эти элементы передаются традицией не порознь, а в некотором сочетании друг с другом, в соответствии с той постоянной связью, которая существует ме- жду ними в искусстве слова в литературных направлениях и течениях [5].
Областью литературной традиции может быть как творчество одного народа, так и международное: можно говорить о классической традиции в мировой литературе или традиции Брехта в немецкой литературе.
Интенсивность литературной традиции может быть неравномерна: отдельная традиция то ослабевает, то усиливается, то, наконец, прекращается. Однако угасшая традиция может возрождаться под влиянием исторических условий. При этом материал угасшей традиции никогда не отмирает до конца: даже если исчезают общие условия, поддерживающие традицию, он остается в качестве литературных пережитков.
Во всяком литературном процессе существует сочетание двух начал: традиции и личного творчества. Там, где личное творчество углубляет традицию, можно говорить о литературной эволюции. Там же, где личное творчество восстает против традиции, оно создает литературную революцию [9]. В том случае, когда личное творчество восстает против традиции, оно нередко создает новую традицию: так, романтизм, являясь началом антитрадиционным по отношению к классическому искусству, сам положил начало новой, романтической традиции. Личное творчество также может устанавливать новые традиции, не порывая со старыми. Так, Г. Гейне удалось впитать в свое поэтическое творчество романтическую традицию, а позже и традицию классическую. Различные традиции могут сосуществовать, иногда объединяясь в одно целое, иногда лишь некоторыми частями соприкасаясь друг с другом. Нередко протест против традиции выражается не путем создания чего-либо нового, а путем возрождения старого [11].
В данном исследовании мы обращаемся к литературной традиции в творчестве современных немецких авторов. При этом традиция рассматривается не как оглядка на проверенные литературные авторитеты, а как поиски опоры в устоявшемся, опробованном и выдержавшем испытанием временем литературном опыте.
Для новейшей немецкой объединенной Германии характерны переработка традиции прошлых лет, связь с литературой прошлого, использование накопленного прежде опыта, скрытое цитирование, своеобразная перетасовка прежних литературных элементов с целью создания произведений новых, то есть, по выражению исследователя постмодернизма Н. Мань-ковской, «оперирование литературными кодами предшественников как средством художествен- ного моделирования» [5, с. 188] Так, например, в «Прощании с друзьями» (1995) Райнхарда Йиргля мы находим интертекстуальную связь с «Одиссеей», «Михаэлем Кольхаасом», «Жестяным барабаном» и другими произведениями немецкой и мировой литературы.
В 1990-е гг. приветствовалось многое из того, что ранее отвергалось. Неприемлемым оставалось одно – дух игры с традицией, который конструировал, а точнее, «деконструировал» (что немцы считают очень опасным) как письмо, так и чтение постмодернистских произведений. Впоследствии тема постмодернизма ушла на второй план под давлением специфической немецкой политической ситуации. А после объединения Германии возник так называемый немецко-немецкий спор, продолжающийся и по сей день [4].
В рамках спора в литературных дебатах возвышается роль читателя, предпочтениям которого раньше не придавалось такого значения. Он сам очищает литературный рынок от «хлама». Объединение Германии повлекло за собой изменение в структуре искусства. В общем-то, по поводу этого и начался великий спор немецких интеллектуалов, которые вообразили, что их дебаты могут привести к порядку в немецкой литературе. Создавшуюся ситуацию жестко охарактеризовал один из известнейших современных немецких писателей Бото Штраус в своем культурно-политическом эссе «Упоительное блеяние баранов», напечатанном в «Шпигеле» в феврале 1993 г. [7].
Говоря о «бараньем упрямстве», Штраус подразумевал косность сознания части немецких писателей, их нежелание мыслить по-новому. Разразившиеся после публикации дебаты явились демонстрацией интолерантности. В течение года более пятидесяти авторов приняли участие в дискуссии. Невозможно представить, чтобы такое случилось в прежней ФРГ. Но как мог именно он до такой степени накалить страсти «писателей круглого стола»? Тот самый Бо-то Штраус, который внёс в 1991 г. своей театральной пьесой «Финальный хор» значительный вклад в достижение немецкого единства, теперь пишет, что не заразившийся политической болезнью современник сегодня различает за фасадом хитрых перестановок и изменений попытки бегства и тенденцию к откату назад [10].
В литературном обществе экс-ГДР разразилась своя дискуссия. На страницы изданий хлынул поток публикаций по истории литературы ГДР. Стали известны имена писателей, которых ранее обходило стороной внимание литератур- ной общественности. На поверхность вышла так называемая «оппозиционно-критическая» (Ф. Квилицш) литература. Вскрылся неоднородный характер всей литературы ГДР. По поводу столь «неожиданного» возникновения оппозиционнокритического течения в литературе ГДР на страницах немецкой периодики развернулась еще одна оживлённая дискуссия, но уже между восточно- и западно-германскими литературоведами. Совершенно очевидно, что ее главная цель состояла в том, чтобы восстановить имена писателей, подвергавшихся преследованиям, вынужденных эмигрировать из страны, восполнить пробелы в истории ГДР, дать оценку скрыто существовавшему на протяжении двух десятилетий оппозиционно-критическому направлению [4].
Однако как западногерманских, так и восточногерманских критиков интересовали, конечно, не только литературоведческие, но и нравственные проблемы. Именно в этой связи центральное место в дискуссии литераторов двух частей Германии занял вопрос о моральном и политическом поведении писателей, об их гражданской и нравственной позиции. Были затронуты также вопросы о роли и месте литературы ГДР в современной ситуации, о перспективах дальнейшего развития. Некоторые западногерманские критики говорили об идеологическом уклоне восточногерманской литературы, а в СМИ прослеживалась тенденция к расформированию вместе с ГДР и ее духовного наследия, литературы, особого менталитета. Восточногерманские критики выступили в защиту литературы ГДР, против попыток умалить её значение [5].
Литературные дебаты в 1990-х гг. в Западной Германии и спор о статусе литературы экс-ГДР во многом следует воспринимать как продолжение дискуссии семидесятых. «Одна из доминант эстетических дискуссий конца века – перспективы художественно-эстетического развития в XXI веке. В этом плане заслуживает внимания анализ не только современного состояния постмодернизма, но и тех остпостмодернистских перспектив, которые всё более настойчиво заявляют о себе. По крайней мере, некоторые векторы возможного развития – технообразы, виртуа-листика, транссентиментализм – проявились достаточно отчётливо. Остпостмодернизм, в отличие от модернизма и постмодернизма, выдвигает некоторые новые неклассические эстетические и художественные каноны, а не те или иные общие подходы к эстетическому; он стремится создать принципиально новую художест- венную среду (виртуальная реальность) и способ отношения с ней (интерактивность)» [10].
Дискуссии на протяжении нескольких десятилетий по сути отразили тот факт, что немецкие критики и литераторы пытались сориентироваться в современной ситуации и наметить траекторию дальнейшего движения. Но сам процесс все минувшие годы не стоял на месте [4].
Новое поколение литераторов сильно отличается от своих предшественников и вольготно чувствует себя на просторах постмодернизма: оно не выказывает особого интереса к тому, чтобы теоретически связать и оправдать ценность и место литературной продукции в условиях рыночно-капиталистических отношений; оно не воспринимает центральную тему послевоенных и семидесятых годов – исследование явления национал-социализма – в качестве общественно-политической необходимости осмысления прошлого, и, наконец, молодые писатели не склонны к переработке исторического материала – для них это лишь материал, который можно легко переписать. История государств ФРГ и ГДР не является в их произведениях предметом основного рассмотрения, она составляет только фон, создающий атмосферу книги, фон, который нередко предстаёт отчуждённым и утрированным [2].
Постмодернистская парадигма, намного раньше завладевшая литературным творчеством в других европейских странах, хотя и со значительным опозданием, проникла и в немецкоязычную литературу. 1990-е гг. характеризуются как продолжение третьей фазы развития постмодернизма, начавшейся в конце 1970-х гг. Именно последнее двадцатилетие свидетельствует о рождении культуры постмодернизма, возникшей из слияния тенденций двух предшествующих декад. В итоге, появление постмодернизма в немецкоязычном литературном пространстве привело к переориентации проблемно-художественного вектора литературы: авторы стали больше внимания уделять рефлексии над процессом написания произведения, предлагать читателю множественность зачинов и концовок и т. д. Преобразился конгломерат литературных средств, тем самым литературные формы обогатились и приняли новые конфигурации.
Говоря об отличительных признаках современного литературного процесса в воссоединенной Германии, большинство его участников и исследователей сходятся во мнении, что основной чертой нынешнего проявления литературной жизни служит нежелание литераторов причислять себя к каким-либо художественным грунтам, объединениям, школам, течениям, направлениям, призванным конструировать литературно-эстетическое пространство. На литературной сцене современной Германии, как правило, начали выступать «солисты». Голоса этих так называемых «солистов» и их немногочисленных приверженцев и последователей теряются в море литературы, обозначаемой термином «mainstream», ставшим в постмодернистском обиходе маркером свободы творческого выражения [2].
В современной Германии, равно как и в других немецкоязычных европейских странах, объединение или размежевание писателей на основе художественно-эстетических принципов не служит определяющим признаком структурирования литературно-художественного пространства. Творческие организации, объединяющие писателей на основе концептуальных (культурно-эстетических, культурно-идеологических) платформ и программ, обычно осуществляют свою деятельность в пределах узкого круга участников и не имеют «именитых» лидеров, которые были бы способны донести соответствующие идеи до широкой аудитории. В качестве примера можно привести «Рейнскую бригаду», «КООК», «Форум 13», «Либус», «раундэбаут» («roundabout»), «альтимейт экэйдеми» («ultimate academy») и др.
Измученная бесконечными дискуссиями, литература объединенной Германии все же обрела свое место в современном культурном пространстве. Она не стала хуже, просто приспособилась к сегодняшним условиям, поменяв масштабы, уровень смысловой насыщенности, набор художественных средств и методы изображения действительности. Но при всех трансформациях, столкновения традиций и новаций немецкая литература не потеряла своеобразия. Она и сегодня находится в постоянной готовности к дискуссиям и нахождению согласия [2].