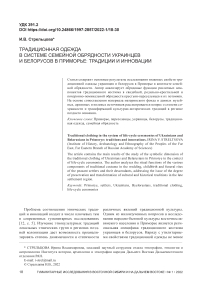Традиционная одежда в системе семейной обрядности украинцев и белорусов в Приморье: традиции и инновации
Автор: Стрельцова Ирина Владимировна
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Археология, антропология и этнология в Circum-Pacific
Статья в выпуске: 1 (59), 2022 года.
Бесплатный доступ
Статья содержит основные результаты исследования знаковых свойств традиционной одежды украинцев и белорусов в Приморье в контексте семейной обрядности. Автор анализирует обрядовые функции различных компонентов традиционного костюма в свадебной, родильно-крестильной и похоронно-поминальной обрядности крестьян-переселенцев и их потомков. На основе сопоставления материала материнского фонда и данных музейных, архивных и полевых источников рассматривается вопрос о степени сохранности и трансформаций культурно-исторических традиций в регионе позднего освоения.
Приморье, переселенцы, украинцы, белорусы, традиционная одежда, семейная обрядность
Короткий адрес: https://sciup.org/170195076
IDR: 170195076 | УДК: 391.2 | DOI: 10.24866/1997-2857/2022-1/18-30
Текст научной статьи Традиционная одежда в системе семейной обрядности украинцев и белорусов в Приморье: традиции и инновации
Проблема соотношения этнических традиций и инноваций входит в число ключевых тем в современных гуманитарных исследованиях [12, с. 5]. Изучение этнокультурных традиций локальных этнических групп в регионах поздней колонизации дает возможность проанализировать степень динамичности и статичности различных явлений традиционной культуры. Одним из малоизученных вопросов в исследовании народно-бытовой культуры восточнославянского населения в Приморье является региональная специфика традиционного костюма украинцев и белорусов. Наряду с утилитарными свойствами традиционной одежды не менее важными являются ее обрядовые функции, составляющие неотъемлемую часть мировоззренческой системы восточных славян. Обрядовый характер отдельных компонентов традиционного костюма был обусловлен семиотическими характеристиками, которыми наделялись определенные предметы одежды в традиционной культуре. Наиболее полно обрядовые свойства традиционной одежды украинских и белорусских переселенцев в Приморье проявились в контексте семейной обрядности, включающей в себя свадьбу, похороны, родильные и крестильные обряды.
В ряду семейных обрядов центральное место занимает свадьба. В украинской традиции свадьба называлась «весiлля», в белорусской – «вяселле» и представляла собой цикл обрядов, которые обычно укладываются в три основные группы в зависимости от времени совершения: 1) предсвадебный период; 2) свадьба; 3) после-свадебный период.
Для предсвадебного периода на территории Приморья были характерны такие обряды, как сватовство, «заручины/заручаны», смотрины – «розгляды/выгляды», выпечка каравая, девичник. Собственно свадьба включала следующие обряды: «посад», благословение к венцу, венчание, приезд в дом жениха или невесты, продажа косы, «перепой», деление каравая, перемена головного убора («завивание»), выкуп постели/приданого, «комора». В послесвадеб-ный период устраивали одаривание, «перезов-ки» (пирование у родственников по очереди), ряжение.
Одежде в свадебных обрядах придавалось особое значение. Наряду со знаковыми функциями дифференцирующего порядка свадебная одежда наделялась магическими свойствами продуцирующего и апотропейного характера, основное значение которых состояло в первом случае в обеспечении различных благ молодой семье, а во втором – в защите от злых сил, порчи и сглаза. Отметим отдельные обряды в украинской и белорусской свадьбе, зафиксированные в Приморье, в которых одежда и ее атрибуты играли важную роль.
Знаковые свойства одежды проявлялись уже на этапе сватовства или заручин. Если девушка была согласна выйти замуж, то она разрезала хлеб, принесенный сватами, и повязывала им рушники через плечо («вешала сватачам рушники»), а жениху – платок на правую руку (Архив Дальневосточного отделения Российской академии наук, далее – Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 75). Вместо рушников будущая невеста могла подносить платки и сватам (старостам). Таким образом, сваты получали отличительные знаки, которые должны были демонстрировать окружающим удачное сватовство, а девушка с этого момента считалась просватанной.
Специальными знаками наделялись и другие чины свадебной процессии. Так, особый статус на свадьбе имел дружко жениха. Он выделялся на фоне окружающих повязанными крест-накрест вышитыми рушниками. По традиции один рушник повязывала мать жениха, когда свадебный поезд отправлялся за невестой, а другой – мать невесты при встрече у себя дома [13, с. 10]. Отличались и головные уборы представителей свадебных чинов из свиты жениха. Их украшали красными бантами [2, с. 157]. Кроме этого, по сведениям информантов из с. Дубовское Спасского района, бумажные или восковые цветы – «квитки» обязательно вешали на грудь жениха и невесты, старшей дружки и старшего боярина (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 137). Квитки из бумаги или лент использовали для украшения венка невесты, а также обрядового деревца («ельца»). Украшали квитками и свадебный каравай (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 59. Л. 61).
Квитки обычно делали на девичнике, где собирались подружки невесты. В белорусской свадьбе делали квитки и украшали ельце и в доме жениха. В среднем для свадьбы нужно было изготовить около 50 квиток. В материалах архива ДВО РАН, приводится описание девичника волынского варианта свадьбы в с. Любитовка Дальнереченского района, где переселенцы из этой местности преобладали. В частности, говорится о том, что недели за две девушки собирались «на венки» (девичник), делали цветы для гостей, которые в день свадьбы неженатым парням и девушкам прикалывали на грудь, а замужним женщинам – на голову (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 20).
Важную роль в обрядах свадебного цикла играл пояс. Пояс выступал как классификатор культурно-этнической границы, и эта его роль наглядно прослеживается во многих обрядах. Так, для всех восточных славян было характерно одаривание поясами невестой жениха и его многочисленных родственников. У белорусов невеста на запоинах в качестве своего согласия опоясывала жениха, свата, также поя- сом окручивали бутылку или бочонок с вином [9, с. 46]. После венчания белорусская невеста развешивала пояса в различных местах дома (над печкой, сундуком) или двора (в амбаре, в хлеву, у колодца). В этом обычае просматриваются пережитки жертвоприношений духам дома, где предстояло жить молодой. К тому же, как отмечает А.К. Байбурин, здесь отражается «идея маркирования своего и освоения чужого» [4, с. 8]. Являясь символической границей человеческого мира, пояс воспринимался как инструмент мощной защиты от негативных воздействий внешних враждебных сил. Так, например, у украинцев красный пояс, подаренный женой мужу, должен был охранять его от наговора, сглаза и чужих жен [9, с. 46]. Дуалистическая природа оппозиции свой–чу-жой, свойственная поясу, наделяла его и ролью посредника между человеческим и небесным миром.
Особое значение в свадебной обрядности придавалось шубе (кожуху). Меховая одежда в свадебных обрядах осуществляла продуцирующую функцию, основанную на магии подобия, и должна была способствовать богатству и чадородию (сколько волос в шубе – столько детей). Так, по традиции на шубу, вывернутую мехом наружу, сажали невесту во время обряда «посад», который заключался в подготовке невесты к венцу и проводился в воскресенье перед приездом жениха. Во время обряда девушку усаживали на табурет или лавку с подушкой, покрытой мехом вверх шубой или рушником, и наряжали в вышитую сорочку, юбку, расплетали косу, расчесывали волосы и надевали венок, украшенный квитками и длинными разноцветными лентами. Когда расчесывали волосы, смазывали их маслом. Чаще всего во время посада косу расплетали дружки невесты. Хотя по свидетельству уроженцев Волынской губернии из с. Любитовка, косу невесте расплетал младший брат.
Под венец невеста обычно шла с распущенными волосами. Исследователи отмечают, что у белорусов обряд расплетания косы и причесывания невесты мог совершаться как до венца, так и после него [9, с. 49]. Так, по словам информантов – белорусов из с. Зеленовка Спасского района, уроженцев с. Владимировка Городнянского уезда Черниговской губернии, расплетание косы происходило после венца в доме жениха (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 97).
Заслуживает внимания обряд продажи косы, который был характерен для украинских и белорусских переселенцев в Приморье. По традиции косу продавал младший брат. Обряд мог проводиться во время посада или позже, во время застолья у невесты. Со слов Я.Г. Шевченко, 1903 г.р., из с. Монастырище Черниговского района, уроженца с. Лемешовка Городнянского района Черниговской области, в обряде участвовали старшая сестра невесты и старшая дружка или сваха, боярин (дружка) жениха и младший брат невесты. Женщины укладывали косы невесты на тарелку, которую держал ее младший брат, торгуясь с дружкой жениха. После этого одну косу расплетала старшая дружка, а другую – старшая сестра, расчесывали волосы и надевали венок из восковых цветов – «герлян-ду», на который привязывали длинные ленты голубого или розового цвета (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 124).
Младший брат невесты требовал выкуп и в обряде продажи места возле невесты, торгуясь с женихом или его дружкой за право сидеть рядом с молодой во время застолья. У переселенцев из Черниговской губернии в обряде продажи места могла участвовать и сестра невесты. По обычаю, она срывала с головы жениха головной убор, вскакивала на лавку и требовала выкуп. После получения выкупа сестра невесты пришивала на головной убор жениха квитку и отдавала его жениху [2, с. 158]. Отмечая сходство обрядов «продажи косы» с выкупом места возле невесты, Г.С. Маслова называет эти ритуалы «реминисценцией когда-то существовавшей купли невесты» [9, с. 49].
Интересны венчальные обряды, прямо или косвенно связанные с одеждой. Так, перед отправкой к венцу молодых ставили на вывернутую мехом вверх шубу и благословляли иконой. Во время венчания в церкви жених и невеста стояли на рушнике. Согласно материалам, собранным в с. Монастырище Черниговского района Приморского края, поп перевязывал руки молодых длинной полотняной хусткой (платком) и водил по часовой стрелке («по солнцу») вокруг амвона. При этом хустка тянулась по полу и если задевала присутствующих там молодых девушек, то считалось, что они быстро выйдут замуж (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 121).
Особое значение в свадебном обряде восточных славян имело приданое невесты. Подготовка приданого была важным предсвадебным этапом. В приданое по традиции входили различные тканые и вышитые предметы – холсты, рядна, рушники, подушки, вышитые рубахи, фартуки и т.д. Невеста должна была также заготовить свадебные подарки для жениха и его родни. Главным свадебным подарком жениху была венчальная рубашка, изготовленная невестой (Рис. 1). По воспоминаниям уроженки Черниговской губернии С.Д. Байдраковой, 1904 г.р., рубашку жениху шили на девичнике дружки невесты (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 80). Зачастую такая рубаха использовалась в магических обрядах. Так, накануне свадьбы молодая по традиции вытиралась сорочкой, приготовленной для жениха, что должно было обеспечить ей любовь будущего мужа и счастливую семейную жизнь [7, c. 51].
У украинцев и белорусов приданое складывали в скрыню или кубел (деревянную кадку с крышкой). В день свадьбы устраивали «перевоз», когда украшенную лентами и бумажными цветами скрыню торжественно везли в дом жениха (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 118). По местным меркам невеста считалась богатой, если ряден много и есть четыре подушки [2, с. 162]. Жених или дружко по традиции должен был заплатить выкуп за приданое невесты, а также за ее постель. Так, по рассказам информантов, на подушках сидела младшая сестра невесты, а ее родственники при этом требовали выкуп. Расплачивались обычно деньгами (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 127). Свадебный поезд встречали многочисленные родственники и односельчане. При этом у белорусов по традиции мать жениха должна была быть одета в шубу (кожух), вывернутую мехом наружу, «чтобы отпугивать злые силы» [5, с. 386]. После привоза приданого свашки в доме жениха развешивали рушники из приданого невесты, демонстрируя ее мастерство.
«Дарование» (дары со стороны жениха, невесты, других участников свадьбы) наряду с приданым занимало важную роль в свадебном обряде. Обмен подарками имел связующее значение, символизирующее единение родов. Так, по традиции невеста должна была одарить жениха и его родителей. Обычно в число подарков в 1920-е гг. входила вышитая рубаха и хустка для жениха, отрез на платье или платок для свекрови и штаны для свекра. В северных районах Черниговщины, а также на территории брянско-гомельского пограничья невеста дари- ла свекрови намитку и вышитую «белявую» рубашку, что служило символическим знаком ее перехода в новый возрастной статус. Жених покупал свадебную одежду для невесты, которая в начале ХХ в. обычно состояла из юбки и кофты или нарядного платья, воскового венка и обуви (ботинок или сапог). Как отмечает Г.С. Маслова, обувь в качестве подарка не только имела престижное значение, но и символизировала привязанность будущей жены к дому [9, с. 27]. Теще в день свадьбы по обычаю жених также дарил обувь (как правило, сапоги).
Дарование молодых могло происходить как в доме невесты, так и в доме жениха. По традиции раздача даров осуществлялась во время раздела каравая. Руководил этим обрядом обычно дружко жениха, вызывая по очереди гостей и подавая каждому стопку с водкой и кусок каравая. При этом «каравай никогда не брали пустыми руками, а только белым платочком» [13, с. 11]. Дарование всегда начиналось с родителей. Дары родителей невесты (одежда, постель), как правило, входили в приданое. Свекровь дарила обычно ткань на платье или платок. После дарования свекр со свекровью обнимались и говорили: «Мы живем хорошо, што б и вы так жили» (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2. Л. 82).
Одним из наиболее ярких моментов свадьбы был обряд «покрывания» или «завивания», который заключался в перемене прически и головного убора невесты и символизировал ее переход из статуса девушки в статус женщины. Неслучайно после этого обряда невеста считалась уже «молодицей» [2, с. 161]. Изначально обряд покрывания был связан с ритуальной функцией старинного полотенчатого женского головного убора – намитки и был призван защитить невесту от злых сил [14, с. 236]. Традиционно во время обрядовой смены головного убора вместо венка надевали чепец (укр. очипок ), который позже заменил платок. Так, по сообщению уроженки Полтавской губернии Н.Г. Теренченко, 1905 г.р., из с. Вишневка Спасского района, когда расплетали косу невесте, несли чепец. Его клали на «веко» (крышку бочки), а «веко» ставили на «дежу» (род деревянной посуды для замешивания теста). Уроженка Киевской губернии Е.В. Бойченко, 1892 г.р., из с. Степановка Кировского района, рассказывала, что невесте надевали на голову очипок или платок (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 80). Покрывание могли про-

Рис. 1. Рубашка мужская свадебная. Изготовлена и вышита Козуб Галиной для своего жениха. с. Хороль, Хорольский р-н Приморского края, 1929 г.
Хорольский историко-краеведческий музей им. И.Д. Бронниковой (ХКМ 97-о)
водить как в доме невесты, так и у жениха. Во время обряда молодые сидели в переднем углу (на куте) на лавке, застеленной шубой. При этом две свахи (одна со стороны жениха, другая со стороны невесты) становились на лавку около невесты, снимали с нее венок и трижды покрывали невесту платком, который невеста повязывала на руку жениху во время сватовства. После этого волосы невесты закручивали в жгут на голове и повязывали сначала ситцевый платок, концы которого завязывали на лбу. Поверх него надевали шерстяной (гарусный) платок, который завязывали под подбородком. Таким образом, на данных примерах можно проследить постепенное напластование инновационных вариантов при сохранении архаичной основы обряда.
Обряды послесвадебного периода были связаны прежде всего с проверкой «честности» невесты. После брачной ночи смотрели ее рубаху – «узнавали честь». Если девушка «честная», ей привязывали на руку красную ленту. Такие же ленты повязывали на руки свашек и родителей молодой (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 166). Этот обычай сохранился среди белорусских переселенцев из Черниговской губернии в селах Новомихайловка и Верхняя Бреевка Чугуевского района. Со слов уроженцев Волынской губернии из с. Татья-новка Спасского района рубаху молодой не показывали, но при «честности» невесты вывешивали красный флаг. Обычай вывешивать красный флаг в случае «честности» невесты отмечают и белорусы из с. Ново-Владимиров-ка Спасского района (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 102–103). Если невеста была «нечестной», ее родителям вешали хомут. Так, по воспоминаниям старожилов из с. Суражев-ка: «Як хорошая молодая, по лавках скачуть, як плохая, – на матку хомут надевают, бумагу пальцами протыкают…» [16, с. 69]. У украинских переселенцев из Полтавской губернии в отличие от волынцев было принято демонстрировать рубаху молодой, из-за чего уроженцы Волынской губернии из с. Славинка Спасского района старались не отдавать замуж своих дочерей за парней-полтавчан (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 87).
Распространенным явлением на второй день свадьбы было «обрядовое ряжение с элементами травестизма» [16, с. 69]. Пока молодые спали, за стол усаживались ряженые «жених» и «невеста». При этом «женихом» наряжалась женщина, а «невестой» – мужчина. Старались рядиться посмешнее. Так, по словам К.П. Оди-нец, 1929 г.р., из с. Новомихайловка, («жениху») «штаны какие-нибудь рваные (надевали), две свеклыны, да кукурузину… (делали), а «невеста» тоже размулевана, там венок черте с чего». Помимо «молодых», наряжали и дружка (женщину). «Нарядят “дружка” этага – один катанок, один сапог, шляпу… вызывая: “На каравай придите!”» [13, с. 12]. Гости рядились «цыганами», нищими, мазали лицо сажей, вставляли «зубы» из картошки [16, с. 69]. Ряженые занимались «цыганщиной», т.е. ходили по селу, выпрашивали или воровали кур, которых затем приносили в дом молодого и использовали для совместной трапезы [2, с. 166].
В советский период в свадебной обрядности украинцев и белорусов Приморья происходили различного рода трансформации, общим вектором которых, как и в других регионах, стала «постепенная утрата обрядом сакрального содержания и усиление развлекательно-игрового компонента» [8, с. 376]. При этом отдельные предметы свадебной одежды долгое время сохраняли свой знаковый характер. Так, в качестве головного убора невесты в приморских селах в первой половине ХХ в. носили венки из восковых или полевых цветов, гофрированной бумаги, позже – из разноцветных атласных лент. Судя по фотографиям из музейных и семейных архивов, венки надевали на свадьбу вплоть до 1980-х гг. (Рис. 2). Элементы традиционной свадебной одежды (венок, вышитая мужская сорочка, нагрудные букетики (квитки)) присутствовали в костюмах «молодых» и во время празднования юбилеев свадьбы (Рис. 3). Достаточно долго употреблялись и некоторые отличительные атрибуты в костюмах основных участников свадьбы: рушники – в одежде сватов и дружек; квитки из живых, искусственных цветов или лент – в костюме жениха и невесты, а также их свидетелей (Рис. 4).
На современном этапе в свадебном обряде, наряду с развлекательно-игровой составляющей, важное значение приобретает и эстетическая функция. При этом некоторые традиционные черты могут сохраняться за счет стилизации (свадьба в народном стиле) с приглашением фольклорных коллективов или введения в процесс свадьбы отдельных знаковых элементов (рушник, платок и т.п.) и действий (обсыпание молодых, раздел каравая и т.д.). Однако в настоящее время сохранение традицион-

Рис. 2. Лобановская невеста с подругами.
с. Лобановка, Дальнереченский р-н Приморского края, 1980-е гг. [10]

Рис. 3. Золотая свадьба Якова Сидоровича и Февроньи Прохоровны Жеретинцевых. с. Лобановка, Дальнереченский р-н Приморского края, 1961 г. [10]

Рис. 4. Свадьба Вадима Федоровича Крекотень и Зинаиды Емельяновны Бенько. г. Спасск-Дальний Приморского края, 1950-е гг.
Архив Спасского краеведческого музея им. Н.И. Береговой (ОФ СКМ 1145-2)
ных мотивов и сюжетов в современной свадьбе происходит на уровне личной инициативы и не имеет системного характера. Таким образом, «традиционность переходит на индивидуальный уровень, и в этом смысле она неаутентична и “вторична”» [8, с. 230].
Информации об использовании одежды в родильных и похоронных обрядах у украинцев и белорусов в Приморье крайне мало. В связи с этим мы ограничимся наиболее общими сведениями, которые касаются данного вопроса. В родильной обрядности восточных славян традиционно выделяют несколько этапов, наиболее значимые из которых – родины и крестины. Анализ полевых материалов дальневосточных исследователей дает основание полагать, что в конце ХIХ – начале ХХ вв. (вплоть до 1930-х гг.) среди украинских и белорусских переселенцев еще бытовали основные родильные обряды, распространенные в местах выхода, однако многие из них достаточно быстро вышли из употребления.
Общераспространенным обычаем, принятым у всех восточных славян для благополучного разрешения от бремени, было развязывание узлов на одежде и расплетание волос у роженицы. С этой же целью женщина должна была разуться, распоясаться, снять с себя кольца и сережки [9, с. 101]. Считалось, что благодаря этим действиям, сохранившим отголоски магии подобия, роды пройдут быстрее и легче.
Большое значение в родильной обрядности имела одежда мужа, наделявшаяся сакральными свойствами. Так, в украинской традиции роженице полагалось трижды переступить через штаны мужа, что должно было придать сил и способствовать легким родам [1, с. 167]. Родившегося ребенка заворачивали в рубаху отца, чтобы отец любил и жалел его [9, с. 103].
Особая роль в родильных обрядах отводилась бабке-повитухе, которая была в каждом селе. По традиции повитуха не только принимала роды, но и ухаживала за роженицей и ребенком после их завершения, используя в своей практике магические действия и заговоры. В отсутствии квалифицированной акушерской помощи на селе повитуха пользовалась особым статусом и уважением. В Приморье, как и в других регионах, было принято одаривать повитух, причем здесь можно выделить локальные различия. Так, со слов уроженца Роменского уезда Полтавской губернии В.Я. Момот из с. Алтыновка Черниговского района, роженица дарила бабке отрез на кофту и юбку (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 23. Л. 118). Уроженцы Киевской губернии одаривали принимавшую роды женщину деньгами и хлебом, черниговцы дарили что-нибудь из одежды (отрез на юбку, кофту, платок), а волынцы – одежду или деньги [2, с. 135]. Повитуха в свою очередь могла принести пеленки для ребенка, продукты, помочь по хозяйству первые дни после родов.
Важным этапом в родильной обрядности было крещение, которое по традиции проводилось примерно через неделю после родов. В приморских селах сроки этого обряда могли значительно отодвигаться (зачастую на несколько месяцев или даже лет) в первую очередь из-за удаленности от церкви. Церковное крещение тесным образом связывалось с народным обрядом крестин. У украинцев и белорусов в крестинах младенца особая роль отводилась восприемникам – кумовьям. До крещения ребенка обычно не клали в колыбель, не надевали на него рубашку. Первую рубашечку готовили к крестинам. Перед крещением в украинской традиции бабка-повитуха, выкупав ребенка, надевала на мальчика рубаху отца, а на девочку – рубаху матери. Затем младенца укладывали на разостланную вверх шубу в переднем углу – на покути. После этого ребенка передавали кумовьям со словами: «Нате вам дите нарожене, принесiть хрещене» [1, с. 173]. У белорусов сразу после крещения ребенка священником кума надевала на него заготовленную ею рубашку и пояс, заворачивала в пеленки и большой (в несколько аршин) отрез холста [1, c. 174].
По возвращении домой после крещения ребенка вновь могли укладывать на шубу, лежащую уже на земле (полу). При этом кум и кума, взявшись за концы шубы, поднимали ребенка и передавали его бабке, поздравляя с внуком или внучкой. На крестинах, известных также как «бабина каша», устраивали застолье с центральным обрядовым блюдом – кашей, сваренной из определенных злаков, и обменивались подарками. Кумовья, как правило, приносили так называемую «крыжму» – ситчику на платье, ткани на пеленки ребенку и т.п., а их в свою очередь одаривали пирогом, завернутым в большой кусок нового полотна и завязанным поясом. Одаривали и бабку-повитуху – родители ребенка обычно дарили ей ткань на кофту, юбку или платок. В некоторых семьях платки в качестве подарка раздавали всем присутствующим женщинам [1, c. 174–175].
Как упоминалось выше, ребенку впервые надевали поясок после крещения, поскольку, согласно архаичному мировоззрению, пояс исполнял функцию своеобразной маркировки человека, определял его принадлежность миру людей. Такие представления были обусловлены в том числе особыми свойствами апотропейно-го характера, которыми наделялся пояс. В завязанном виде он являлся символом замкнутого круга, который по традиционным представлениям выступал сильнейшим оберегом, защищая от дурного глаза и болезней. Таким образом, с момента крещения пояс, наряду с крестом, сопровождал человека до конца жизни, что являлось этической нормой.
В родильной обрядности украинцев и белорусов в Приморье отмечены некоторые обряды, связанные с волосами. Так, через год после рождения обычно устраивали первое подстригание волос, в котором сохранились отголоски инициаций, связанных с переходом ребенка в иную возрастную категорию. Обряд подстригания проходил следующим образом: на полу расстилали тулуп, вывернутый наизнанку, на него усаживали ребенка (как правило, мальчика), а приглашенные для этого события кум или бабка выстригали крестообразно немного волос у него на голове [2, с. 139]. У белорусов мальчиков при подстригании традиционно ставили на дежу, а девочек – на стригли [9, с. 106].
Трансформации в родильно-крестильной обрядности происходили с разной динамикой и были обусловлены изменениями в социально-политической, экономической и общественно-культурной сферах. Как было отмечено выше, после 1930-х гг. традиции, связанные с родильно-крестильными обрядами крестьян-переселенцев, постепенно выходили из употребления. Этому способствовало строительство в сельской местности акушерских пунктов и роддомов, а также распространение государственной политики атеизма, повлекшей ограничение церковной деятельности. В 1990е гг., благодаря возрождению православия на государственном уровне, в Приморском крае, как и в других регионах России, стал пользоваться популярностью обряд крещения. При этом, как отмечают исследователи, особенностью проведения этого обряда на современном этапе является следование исключительно цер- ковным канонам без традиционных обрядовых сопровождений, присущих народной культуре [15, с. 186].
В похоронной обрядности обычно выделяют следующие этапы: подготовка умершего к погребению, погребение и поминки. Погребальная одежда восточных славян имела общие типологические черты: цвет, покрой, способ изготовления, социально-возрастные особенности. Смертную одежду готовили заранее. В качестве материала долгое время использовали холст, позднее – покупную материю. При изготовлении смертной одежды шили на руках вперед иголкой. Погребальная одежда отличалась старинным покроем. Так, в старообрядческих рубахах, приготовленных «на смерть», использовался архаичный туникообразный крой. Женские рубахи, как правило, шили цельные (додiльные). По старинному обычаю в качестве застежек использовали завязки на рукавах и вороте. Широко была распространена традиция хоронить в венчальной одежде. Это подтверждают и архивные материалы. Так, по воспоминаниям А.А. Дьяконовой, 1909 г.р., из с. Савиновка Дальнереченского района (родители из Каменец-Подольской губернии), раньше существовал обычай беречь свадебную сорочку «на смерть» (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 21. Л. 19). В похоронных обрядах также присутствовал пояс. Мужчин и женщин хоронили подпоясанными, поскольку верили, что в загробной жизни они будут вести тот же образ жизни, что и на земле. По описанию информантов, покойного одевали следующим образом: «Мужикам трусы не одевали, (только) нижнее белье – кальсоны и рубашку, рубашку подвязывали вот так (поверх кальсон), только белую рубашку. И тут, чтоб не было застежек никаких, ни пуговиц, ничего не было у мужиков. Белым поясом подпоясывали» (Личный архив И.В. Стрельцовой; зап. от Ф.К. Михайловой, 1928 г.р., с. Богуславец Красноармейский района Приморского края, 1993 г.).
У украинцев долгое время существовал обычай хоронить молодых, не успевших вступить в брак людей, используя элементы свадебной атрибутики. Это было связано с архаическими представлениями о том, что в загробном мире у них обязательно должна быть пара. Так, холостым парням к шапке или к груди прикалывали цветок, а незамужних девушек хоронили в венке с лентами. Интересно, что отголоски этого обычая сохранились среди переселенцев в При- морье и были отмечены нашими информантами еще в конце ХХ в. По воспоминаниям А.В. Апанасенко, 1963 г.р., из с. Орехово Дальнеречен-ского района, в 1980-е гг. в ее родном селе хоронили девочку лет семи, на голове у которой был веночек с черными и красными цветами и лентами. Следует отметить, что использование красного цвета не было распространенным явлением, но допускалось в отдельных элементах погребальной одежды девушек и молодых женщин [9, с. 97]. В основном в погребальной одежде восточных славян преобладал белый цвет. Траурной одеждой в конце ХIХ в. служила обычная одежда без украшений. Постепенно белый цвет в погребальной и траурной одежде под влиянием города вытеснялся черным. Наряду с этим как в траурной, так и в «смертной» одежде в начале ХХ в. использовался и синий цвет. Так, известно, что у белорусов на покойника надевали синий пояс. В случае смерти близких родственников девушки в знак печали распускали косы, снимали серьги, а девушка-сирота надевала венок из голубых и зеленых лент [9, с. 97].
Важную роль в похоронных обрядах играли такие предметы из текстиля, как рушник, платок, отрез холста или фабричной ткани. Длинное узкое полотно наряду с поясом олицетворяло путь, дорогу и в похоронной обрядности служило посредником между человеческим и потусторонним или небесным миром. Украинцы и белорусы традиционно использовали для переноса покойника специальные носилки – «нары», представлявшие собой две жерди, соединенные перекладинами. Так, со слов М.С. Кузюковой, 1874 г.р., из с. Харитоновка Шкотовского района, на кладбище гроб несли на «нарах». Опускали в могилу на рушниках или реже на веревках. На крест вешали рушники или куски коленкора (Архив ДВО РАН. Ф. 13. Оп. 1. Д. 2. Л. 54). Общераспространенным явлением было украшение крестов и надгробных памятников рушниками во время общественных поминовений умерших (в родительские субботы, на Радуницу, Троицу и т.п.). Такая «текстильная жертва» была частью «института оброка» в традиционной культуре [6, с. 71]. Использование полотенец (рушников) в ритуальных целях (навязывание на могильный крест на Радуницу) фиксировалось исследователями в Приморье еще в последнее десятилетие ХХ в. – начале ХХI в. у выходцев из северо-западных уездов Черниговской губернии в селах Суражевка, Васильевка и Многоудобное [11]. По свидетельству А.Н Багашева и Р.Ю. Федорова, проводивших в 2013 г. полевые исследования в с. Ивановка Михайловского района Приморского края, местные жители называли традицию обвязывать могильные кресты рушниками характерной как для белорусов, так и для украинцев. Угасание этой традиции местное население объясняет тем, что современные мраморные надгробия стало неудобно обвязывать рушниками. В качестве примеров модернизации обряда были отмечены красные ленты или фабричные полотенца, повязанные на могильных памятниках [3, с. 102].
Таким образом, на протяжении советского периода основные сюжеты похоронно-поминальной обрядности сочетали в себе традиционные элементы и новации, обусловленные изменениями в социально-экономической и общественно-культурной сферах. Состав погребальной одежды на разных этапах был неодинаковым и определялся трансформациями традиционного костюма в целом. Если в начале колонизации крестьяне-переселенцы использовали домотканую одежду для погребения, хоронили в венчальной одежде, то в дальнейшем было принято использовать новую одежду из материалов фабричного производства, которую впоследствии заменили городским костюмом. На современном этапе отдельные архаичные традиции, связанные с похоронно-поминальной обрядностью украинских и белорусских переселенцев, претерпев определенные изменения, все еще сохраняются среди представителей старшего поколения в сельской местности.
На основе проведенного исследования можно заключить, что в Приморье достаточно долгое время традиционный костюм был неотъемлемой частью отправления семейных обрядов. Относительно высокий семиотический статус костюма переселенцев был обусловлен необходимостью сохранения этнической самоидентификации в условиях новых мест. Особое символическое значение придавалось таким видам одежды, как рубаха, пояс, кожух, обувь, головной убор. Обрядовыми свойствами наделялись рушники, платки, ленты, венки. Наиболее ярко обрядовая функция одежды представлена в свадебной обрядности. Хорошая сохранность народно-бытовой культуры в контексте обрядового цикла была отмечена у белорусских переселенцев из районов брянско-гомельского пограничья. У украинцев Приморья, особенно в отдаленных селениях дольше, чем на Украине, сохранялся ряд архаических свадебных обрядов, таких как «покрывание» невесты и «посад» [2, с. 167]. Наряду с этим некоторые обряды, в частности унизительный обряд, связанный с демонстрацией рубахи молодой, быстро вышли из употребления. Трансформации в сфере семейной обрядности, происходившие на протяжении советского и постсоветского периодов, стали причиной постепенной утраты смыслового содержания большинства обрядов и связанной с ними традиционной одежды. При этом наибольшую устойчивость сохранили традиции похоронно-поминальной обрядности.
Список литературы Традиционная одежда в системе семейной обрядности украинцев и белорусов в Приморье: традиции и инновации
- Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья у восточных славян на юге Дальнего Востока России (50-е годы XIX в. - начало ХХ в.). М.: ИЭА РАН, 1997.
- Аргудяева Ю.В. Крестьянская семья украинцев в Приморье (80-е гг. XIX - начало XX вв.). М.: ИЭА РАН, 1993.
- Багашев А.Н., Федоров Р.Ю. Историко-этнографические аспекты жизни белорусских крестьян-переселенцев на Дальнем Востоке // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 2. С. 99-105.
- Байбурин А.К. Семиотические аспекты функционирования вещей // Этнографическое изучение знаковых средств культуры. Л.: Наука, 1989. С. 63-88.
- Белорусы / Под ред. В.К. Бондарчика, Р. А. Григорьевой, М.Ф. Пилипенко. М.: Наука, 1998.
- Лобачевская О.А. Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации. Минск: Беларусска навука, 2013.
- Лобачевская О.А., Зимина З.И. Белорусский народный костюм. Минск: Беларусска на-вука, 2009.
- Логика трансформаций: региональная и локальная специфика культурных и языковых процессов / Под ред. И.А. Морозова, И.С. Слепцовой. М.: Индрик, 2019.
- Маслова Г.С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX - начала XX вв. М.: Наука, 1984.
- «О Лобановке, о малой родине, с любовью...»: к 105-летию с. Лобановка. Владивосток, 2012.
- Семенова И.В. Восточнославянское традиционное декоративно-прикладное искусство. Дальневосточная специфика // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: http://science-education.ru/ru/article/ view?id=14935
- Традиции и инновации в истории и культуре. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН / Под ред. А.П. Деревянко, В.А. Тишкова. М.: ИЭА РАН, 2015.
- Традиционная свадьба: Свадебный обряд переселенцев Черниговской губернии в Приморье / Сост. И.В. Семенова. Владивосток, 1998.
- Украинцы / Под ред. Н.С. Полищук, А.П. Пономарева. М.: Наука, 2000.
- Федоров Р.Ю. Особенности традиционной культуры и динамика этнокультурных процессов у белорусских крестьян-переселенцев Сибири и Дальнего Востока (вторая половина XIX - начало XXI в.): дис. ... д-ра ист. н. Тюмень, 2020.
- Фетисова Л.Е. Белорусские традиции в народно-бытовой культуре Приморья. Владивосток: ОАО «Дальприбор», 2002.