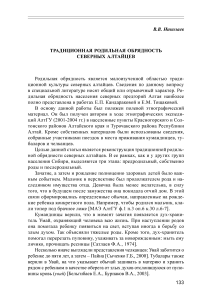Традиционная родильная обрядность северных алтайцев
Автор: Николаев В.В.
Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14521269
IDR: 14521269
Текст статьи Традиционная родильная обрядность северных алтайцев
Родильная обрядность является малоизученной областью традиционной культуры северных алтайцев. Сведения по данному вопросу в специальной литературе носят общий или отрывочный характер. Родильная обрядность населения северных предгорий Алтая наиболее полно представлена в работах Е.П. Кандараковой и Е.М. Тощаковой.
В основу данной работы был положен полевой этнографический материал. Он был получен автором в ходе этнографических экспедиций АлтГУ (2001-2004 гг.) в населенные пункты Красногорского и Сол-тонского районов Алтайского края и Турочакского района Республики Алтай. Кроме собственных материалов были использованы сведения, собранные участниками поездок в места проживания кумандинцев, ту-баларов и челканцев.
Целью данной статьи является реконструкция традиционной родильной обрядности северных алтайцев. В ее рамках, как и у других групп населения Сибири, выделяются три этапа: предродильный, собственно роды и послеродильный.
Зачатие, а затем и рождение полноценно здоровых детей было важным событием. Мальчик в перспективе был продолжателем рода и наследником имущества отца. Девочка была менее желательна, в силу того, что в будущем после замужества она покидала отчий дом. В этой связи сформировались определенные обычаи, направленные на рождение ребенка конкретного пола. Например, чтобы родился мальчик, клали топор под брачное ложе [МАЭ АлтГУ ф.1 п.3 оп.6 к.30 л.6-7].
Кумандинцы верили, что в момент зачатия появляется дух-хранитель Умай, охраняющий человека всю жизнь. При наступлении родов она помогала ребенку появиться на свет, вступая иногда в борьбу со злым духом. Так объясняли тяжелые роды. Кроме того, дух-хранитель помогал перерезать пуповину, ухаживать за новорожденным: мыть ему личико, прочищать ресницы [Сатлаев Ф.А., 1974].
Несколько иначе выглядели представления челканцев: Увай заботится о ребенке до пяти лет, а затем – Пайна [Сыченко Г.Б., 2000]. Тубалары также верили в Увай, на что указывает обычай зашивать в материю и хранить рядом с ребенком в качестве оберега от злых духов отслоившуюся от пуповины кровь ( увай ) [Бельгибаев Е.А., Бурнаков В.А., 2003].
После того, как становилось изве стно, что женщина беременна ( “па-арлыг” , “поос” или “айлыг” – кум. яз., “айлу” , “курсак” (желудок) – тубал. яз., “барлу” (у нее есть), “курсак” , “шыдовас” (в тяго сти) – челк. яз.), к ней изменяло сь отношение. Вступали в силу различные ограничения. Например, запрещалось посещать источники ( аржан суда ), так как считалось, что его дух мог забрать “кут” еще не родившегося ребенка [Бельгибаев Е.А., 2004; Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.9, 11 к.33 л.1-3].
Роды происходили при стечении народа, криках и ружейной стрельбе. Роженица в доме оставалась с бабкой-повитухой ( киндик-ана , кор-туяш , урякен – кум. яз., сыймучи туркуш – тубал. яз., энедже – челк. яз.), которая помогала приготовиться к родам: распустить волосы, принять полусидячее положение [Вербицкий В.И., 1993; Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.6 оп.2 к.24 л.2; Сатлаев Ф.А., 1974]. Кроме того, тубалары привлекали к помощи старших родственниц [Бельгиба-ев Е.А., 2004].
При тяжелых родах приглашали шамана для камлания, чтобы изгнать злого духа и делали массаж живота в направлении выхода младенца [МАЭ АлтГУ ф.1 п.3 оп.3 к.9 л.2; Сатлаев Ф.А., 1974]. Тубалары в таких случаях приглашали незнакомого мужчину преклонного возраста, часто с соседнего поселка. Роженица пугалась его и сразу же “освобождалась” [Бельгибаев Е.А., 2004]. Видимо, какие-то меры в случае трудно стей при родах также принимали и челканцы.
Рождение ребенка было большим праздником не только для членов семьи, но и для их родственников и жителей села. Многодетные семьи пользовались уважением. На этот счет у кумандинцев существовало выражение: Один ребенок не ребенок, два ребенка – полребенка, три ребенка – ребенок ( Пыр пала – пала епись , ике пала – полпала , ич пала – пала ) [МАЭ АлтГУ ф.1 п.3 оп.6 к.63 л.1].
Родившегося ребенка повивальная бабка обмывала в деревянной емкости теплой водой и обертывала в домотканую материю. Затем правила ему головку и сообщала отцу пол ребенка. За проделанную работу она получала полотенце. Между бабкой-повитухой и новорожденным устанавливались крепкие и уважительные отношения на всю жизнь [Бельгибаев Е.А., 2004; Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.6; 11 оп.3; 1 к.10; 27 л.13; 3-4; Сатлаев Ф.А., 1974].
Что касается отвода (пуповины), то его могли отрезать ножницами или дожидались отпадения [МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.10 к.23 л.3; Сатлаев Ф.А., 1974]. Перерезание пуповины было характерно для тубаларов и челканцев [Бельгибаев Е.А., 2004; МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.1 к.21 л.1-2].
После родов у челканцев повивальная бабка разводила огонь в очаге с целью отогнать злых духов от беззащитных в тот момент ребенка и роженицы [МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.1 к.26 л.4]. Подобным образом поступали многие народы Сибири. Например, хакасы и якуты кормили 134
дух огня, чтобы примирить его с новым членом семьи, а также благодарили дух-хранитель за помощь при родах [Алексеев Н.А., 1969; Кустова Ю.Г., 2000]. Видимо, схожие цели преследовали в прошлом и население северных предгорий Алтая.
Северные алтайцы очень бережно отно сились к детскому месту ( убайа ) и пуповине ( ич – букв.: внутренняя часть, нутро) младенца. Считалось, что их сохранно сть будет благоприятствовать новорожденному. Исследователи отмечают несколько вариантов действий по отношению к отводу и последу: погребение и хранение.
Право на захоронение последа имела только бабка-повитуха. Куман-динцы его закапывали в землю (предварительно положив в сосуд, туес или обернув в чистую тряпку) у окна дома со стороны восхода солнца, а тубалары и челканцы в лесу, в яме глубиной до полуметра [Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.3; 6 оп.3; 2 к.10; 24 л.13; 2; Сатлаев Ф.А., 1974; Тощакова Е.М., 1978]. По другой информации у кумандинцев мать закапывала пуповину и послед вместе [МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.10 к.23 л.3]. Тубалары также практиковали захоронение отвода [Бельгибаев Е.А., 2004]. Видимо, последний вариант обряда более позднего происхождения и отражает процесс упрощения и забывания традиции.
У кумандинцев и челканцев существовал обычай хранения пуповины и последа в доме: под полом, на внутренней завалинке жилища или на чердаке [Сатлаев Ф.А., 1974; Тощакова Е.М., 1978]. По другим сведениям отвод, предварительно положив в мешочек, отдавали носить ребенку [Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.3 оп.3 к.10 л.13; Сатлаев Ф.А., 1974]. По тубаларам на этот счет сведения отсутствуют.
После разрешения от беременности женщины кумандинцы и чел-канцы призывали к ней шамана. Иногда его мог заменить пожилой человек. Го сть предсказывал судьбу ( irq , ульга ) новорожденного, определенную Кудай Ульгенем при зачатии. Сообщался срок его жизни и те моменты, когда ему будет грозить смерть ( бом , пом – букв.: скала, утес). Их ( бом , пом ) могло быть до девяти, но эти опасности можно было избежать и умереть естественной смертью [Славнин В.Д., 1991; Хильден К., 2000].
На шестой – восьмой день после отпадения пуповины ( киндик туш-кен ) кумандинцы и челканцы совершали обряд положения ребенка в колыбель ( пупай , пежик , тос бежик ). Ее, как и одежду, для младенца северные алтайцы изготовляли по сле родов. В противном случае, согласно народным представлениям, новорожденный мог умереть. В сделанную отцом первенца кроватку затем клали всех детей, родившихся позже [Бельгибаев Е.А., 2004; МАЭ АлтГУ ф.1 п.6 оп.3 к.10 л.13; Тоща-кова Е.М., 1978]. Кроме того, челканцы изготовляли ванночку ( тозьяк ). В нее запрещалось класть какие-либо вещи, в противном случае ребенок мог заболеть. Воду по сле купания младенца выливали за ограду [МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.1 к.21 л.1-2].
В день положения ребенка в колыбель кумандинцы и тубаларам давали ребенку имя. У челканцев совмещение двух обрядов было не обязательным. Выбор имени доверяли кому-либо из родственников, почитаемому всеми человеку, незнакомцу, зашедшему первым в дом, или бабке-повитухе. При этом последняя приносила подарок: мальчику – монеты, а девочке – бусы, серьги, а в ответ также одаривалась. Если имя не давали, то это делал злой дух ( кормос ) [Бельгибаев Е.А., 2004; Вербицкий В.И., 1993; Кандаракова Е.П., 1999; Сатлаев Ф.А., 1974; Тощакова Е.М., 1978]. В.Д. Славнин [1991] считает, что обряд имянаречения происходил тогда, когда молодой месяц прибывал и считался “чистым”.
Кроме того, у челканцев имя мог дать шаман [МАЭ АлтГУ ф.1 п.11 оп.1 к.21 л.1-2]. Возможно, в прошлом именно кам говорил имя новорожденного во время определения его судьбы, описанном выше, в честь умершего родственника, возродившегося в данном ребенке через пять-шесть поколений. В некоторой степени на это также указывает обычай кумандинцев называть младенца в че сть умершего родственника, чтобы сохранить о нем память, а также, чтобы ему передались лучшие качества предка. В честь самоубийц и несчастливых людей именами не нарекали [МАЭ АлтГУ ф.1 п.3; 6 оп.3; 6 к.9; 30 л.2; 6-7].
В связи с большой детской смертностью часто давали имена-обереги, так как считали, что злой дух тогда не заберет душу ребенка. Уже во второй половине XIX в. стали нарекать детей русскими именами [Вербицкий В.И., 1993; Кандаракова Е.П., 1999; МАЭ АлтГУ ф.1 п.6 оп.1, 4 к.7 л.7-9]. Для защиты от злых духов тубалары и челканцы использовали также вещи-обереги: пуговицы, когти, бусы и т.д. [Кандарако-ва Е.П., 1999].
Как до родов, так и после них существовали различные ограничения. Для защиты роженицы и новорожденного запрещалось выносить из дома огонь в течение сорока дней после родов [МАЭ АлтГУ ф.1 п.6 оп.1, 4 к.7 л.7-9]. Видимо, данный обычай является отголо ском существовавшего в прошлом периода сорокодневья, широко известный у тюркских народов Сибири.
Когда ребенку исполнялся год, родители в первый раз стригли ему воло сы и ногти. Волосы хранили на дне сундука. Несколько позднее, в соответствии с представлениями о рождении младенца “спутанным”, ребенку связывали ноги нитками и затем разрезали [МАЭ АлтГУ ф.1 п.6 оп.3 к.9 л.2; Сатлаев Ф.А., 1974].
Таким образом, традиционную родильную обрядность кумандинцев, тубаларов и челканцев, направленную на сохранение жизни новорожденного и роженицы, а также введение ребенка в социум, в настоящее время можно реконструировать лишь в общих чертах. Данный блок обрядов и обычаев под влиянием пришлых групп населения, в том числе русских, и православия в течение XX вв. претерпел трансформацию. Многие элементы были забыты и утрачены.