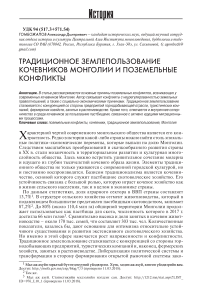Традиционное землепользование кочевников Монголии и поземельные конфликты
Автор: Гомбожапов Александр Дмитриевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные причины поземельных конфликтов, возникающих у современных кочевников Монголии. Автор связывает конфликты с неурегулированностью земельных правоотношений, а также с социально-экономическими причинами. Традиционное землепользование сталкивается с конкуренцией со стороны предприятий горнодобывающей отрасли, туристических компаний, фермерских хозяйств, занятых в растениеводстве. Кроме того, отмечается и внутреннее соперничество в среде кочевников за пользование пастбищами, связанное с активно идущими миграционными процессами.
Поземельные конфликты, кочевники, традиционное землепользование, монголия
Короткий адрес: https://sciup.org/170169009
IDR: 170169009 | УДК: 94 | DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5770
Текст научной статьи Традиционное землепользование кочевников Монголии и поземельные конфликты
Х арактерной чертой современного монгольского общества является его контрастность. Редко в истории какой-либо страны можно найти столь эпохальные политико-экономические перемены, которые выпали на долю Монголии. Следствием масштабных преобразований и скачкообразного развития страны в XX в. стали мозаичность в территориальном развитии и культурная много -слойность общества. Здесь можно встретить удивительное сочетание модерна и идущего из глубин тысячелетий кочевого образа жизни. Элементы традиционного общества не только уживаются с современной городской культурой, но и постоянно воспроизводятся. Базисом традиционализма является кочевничество, основой которого служит пастбищное скотоводческое хозяйство. Его устойчивость связана с большой ролью, которую играет кочевое хозяйство как в жизни сельского населения, так и в целом в экономике страны.
По данным статистики, доля аграрного сектора в ВВП страны составляет 13,7%1. В структуре сельского хозяйства сегмент животноводства, который в подавляющем большинстве представлен пастбищным скотоводством, занимает 87,2%2. До 80% (около 110,4 млн га) обширной территории Монголии продолжает использоваться как пастбища для скота, численность которого в 2017 г. достигла 66 млн голов3. Сравнительно высока и доля занятых в кочевом животноводстве – около 170 тыс. семей, что составляет 303 тыс. чел. Количественные показатели, казалось бы, дают основание для оптимизма относительно устойчивого существования и развития экстенсивного скотоводческого хозяйства. Но именно в этой сфере намечается рост напряженности и конфликтности. Традиционное землепользование сталкивается с конкуренцией со стороны горнодобывающих предприятий, туристических компаний и, наконец, фермерских хозяйств, занятых в растениеводстве. Либерализация политической системы и трансформация в сторону формирования открытой рыночной системы зако- номерно поставили вопросы владения и пользования земельными угодьями. Традиционное природопользование, основанное на представлении кочевников о пастбищах и водных ресурсах как коллективном достоянии, сталкивается с таким явлением, как право частной собственности на землю.
В переходный период, после распада социалистического лагеря и разрушения хозяйственных связей с СССР правительство Монголии было вынуждено обратиться за помощью к развитым странам и международным финансовым организациям (МВФ, группа Всемирного банка, Азиатский банк развития и др.) [Sneath 2003; Rossabi 2005; Myadar 2009]. Неотъемлемым условием такой помощи стали проведение мероприятий по демократизации и радикальные экономические реформы. В частности, были затронуты и земельные отношения. Согласно закону о земле, который был принят в 1994 г., гражданам Монголии впервые разрешались приватизация и выкуп земельных участков в частную собственность. Исключением стали пастбищные угодья и отдельные категории земель, имеющие специальный статус, которые по Конституции Монголии не подлежали передаче в частные руки. Специалисты отмечают, что существенным недостатком и источником конфликтной ситуации закона о земле 1994 г. была размытая формулировка понятия «общая земля», которая заключала в себе двусмысленность его применения [Mearns 2004; Barcus 2018]. На практике это означало, что представление об общей собственности на пастбища не позволяло местным общинам препятствовать пользоваться ими посторонним, что подрывало рациональное пользование пастбищными угодьями.
Следующим шагом в этом направлении стало принятие в 2002 г. новой редакции закона о земле. Основные его положения повторяют закон о земле 1994 г. Вместе с тем в нем содержатся нормы, которые конкретизируют права на землю, разделяя их на такие виды, как право собственности, владения, использования и ограниченного использования. В зависимости от вида земельного права варьируется полнота распоряжения, например, возможность продавать или арендовать [Barcus 2018].
Поземельные конфликты в местах традиционного хозяйствования кочевников становятся частым явлением. Спрос на мировом рынке на минеральные ресурсы привел к инвестиционному буму в горнодобывающей промышленности Монголии. Разработка месторождений в большинстве своем ведется открытым способом, что ведет к изъятию значительных по размеру площадей земли из пастбищного фонда. Кроме того, недовольство у местных жителей вызывает нарушение водного режима. Горнодобывающие предприятия потребляют значительные объемы воды, а также загрязняют поверхность почв и грунтовые воды сбросом сточных вод. Это стало острой проблемой, особенно для засушливых районов. Показательным в этом отношении является разрабатываемое и введенное в эксплуатацию крупнейшее полиметаллическое месторождение Оюу Толгой, расположенное в Южно-Гобийском аймаке. Негативное влияние оказывает и нелегальная добыча полезных ископаемых, особенно золота. «Черные старатели» наносят непоправимый вред природе, поскольку применяют самые примитивные способы извлечения золота [Бадараев 2014].
Все большую конкуренцию кочевникам-скотоводам приходится выдерживать и с земледелием. В результате принятых правительством Монголии программ по обеспечению продовольственной безопасности из года в год увеличивается площадь пахотных земель. В 2008 г. постановлением правительства Монголии № 70 была утверждена национальная программа «Атрын III дахь аян». Она предусматривает реализацию мер по восстановлению плодородия почв заброшенных земель сельскохозяйственного значения, развитие семенного фонда, внедрение инновационных технологий в целях импортозамеще- ния и содействия устойчивому развитию сельского хозяйства и его экспортного потенциала.
Надо отметить, что в советский период Монголии удалось в ходе реализации программ «Атрын аян», направленных на освоение целинных земель, полностью обеспечить себя продовольствием (первая программа была принята в 1959 г., вторая – в 1976 г.). Для этого было создано более 60 госхозов; общая площадь культивируемых земель достигла 846 тыс. га1. В ходе либерализации экономики в 90-е гг. прошлого столетия имущество госхозов было приватизировано, а сами они прекратили свое существование. Экономическая разруха и заметное ухудшение жизненных условий основной части сельского населения привели к тому, что животноводство в кочевой форме стало рассматриваться в качестве безальтернативного источника существования. Заброшенные пахотные земли стали использоваться как естественные кормовые угодья не только местными хозяйствами, но и теми, кто перекочевал из других аймаков. При плановой экономике соблюдалась строгая экономическая специализация районов. Она ограничивала численность скота в районах земледелия, а также в личном подворье. Выделялись животноводческий и земледельческий пояса. В последний входили Селенгинский, Центральный, Булганский и Хубсугульский аймаки. Естественно предположить, что в районах, специализировавшихся на животноводстве, в ходе приватизационных мероприятий на одного человека приходилось большее число скота. Стартовые условия были различными. Если в западных регионах страны за короткий промежуток времени благодаря частнособственническим хозяйствам удалось увеличить поголовье скота в разы, то темпы роста численности скота в центральных районах были не такими быстрыми. Возросла плотность кочевых хозяйств, увеличилась нагрузка на пастбища. Следствием данного явления стал переток кочевого населения в районы земледельческого пояса. Конечно, миграции сельского населения обусловлены не только данным обстоятельством. Основной причиной «центробежной» миграции является удаленность от городов как основных рынков сбыта животноводческой продукции. Из-за низкой степени урбанизации, неразвитости предприятий пищевой промышленности, системы заготовок и транспортировки, отсутствия дорожной инфраструктуры в западных регионах остро стоит проблема реализации основных видов продукции животноводства – молока и мяса [Janzen 2009]. Отсюда потребительская направленность и низкая товарность хозяйств. Среди прочих факторов миграции можно перечислить отсутствие развитой социальной инфраструктуры, стремление молодых людей получить высшее образование, а также суровые климатические условия в местах проживания.
Материалы полевых исследований, проведенных в 2015—2017 гг на территории Селенгинского, Центрального и Булганского аймаков Монголии, показывают возрастающую напряженность в отношениях между владельцами фермерских хозяйств, занятых в растениеводстве, и кочевыми животноводами. Противоречивость ситуации заключается в следующем. Восстановление выбывших из пользования пахотных земель происходит за счет изъятия их у кочевников, которые за постсоветский период использовали их как естественные пастбища. Государство дает разрешение на долгосрочную аренду земельных участков фермерам. Происходит огораживание полей и оттеснение кочевников-животноводов. Поскольку пастбищные угодья по закону о земле 2002 г. рассматриваются как общее достояние, то кочевники не могут официально оформить их в собственность или в аренду. Кроме того, государство субсидирует частные сельскохозяйственные предприятия, стимулируя расширение пахотных земель. Все это выстраивает логику конфликтных поземельных отношений между кочевниками и земледельцами.
Так, в Селенгинском аймаке опрошенные нами респонденты практически все имеют договоренность с владельцами возделываемых полей. Возможные спорные моменты между ними разрешаются с помощью устных или письменных соглашений. По этой договоренности скотоводы должны освободить обрабатываемые земли к началу посева (середина мая). В свою очередь, растениеводы должны убрать свои поля к началу октября, когда скотоводы уходят на зимнюю стоянку. В случае потравы посевов скотовод обязан возместить ущерб. Размеры штрафа сильно варьируются в зависимости от тех решений, которые были приняты в каждом сомоне (низовая административно-территориальная единица). К примеру, в Мандал-сомоне принята практика соотношения 1 : 5, т.е. из 5 голов скота, зашедших на поля, 1 голова остается в виде уплаты штрафа. Чаще всего скотоводы предпочитают договориться с владельцами возделываемых полей, не доводя дело до судебного разбирательства.
Характерной особенностью стала чересполосица земель, занимаемых под пастбища, и обрабатываемых полей. Кочевники вынуждены менять места сезонных пастбищ, с началом посевной кампании и на вегетационный период уводить свой скот подальше от полей, пролагать маршруты кочевок с их учетом. Сокращается амплитуда кочевок и число сезонных стоянок.
Заметным явлением становится перемена соотношения видов скота в традиционной структуре стада и тенденция к специализации на разведении животных одного вида. Поскольку для мелкого рогатого скота и лошадей требуются большие пастбищные пространства, то в связи с их нехваткой скотоводы вынуждены разводить другие, менее подвижные виды скота. Необходимо отметить, что наиболее удобные земли для летних пастбищ становятся менее доступными. Типичный ландшафт перечисленных выше аймаков представлен равнинным холмистым рельефом с участками леса на возвышенностях. Понижения между холмами, представляющие довольно широкие котловины, чаще всего отводятся под посевные площади. Как правило, именно в них кочевники располагаются на летний период. Концентрация домохозяйств в результате их оттеснения в некоторых районах настолько высока, что кочевникам приходится строго устанавливать очередность водопоя, условливаться о выпасе скота в той или иной стороне. Это ускоряет процесс отмирания норм обычного права и порождает новый тип социальных взаимоотношений, основанных на частнособственнической идеологии.
Следует отметить, что нарастает не только внешняя конкуренция в формах землепользования, но и внутри сообщества скотоводов. Связан этот процесс, как отмечалось выше, с притоком мигрантов в центральные области из западных регионов. В случае переезда на новое место процедура выглядит следующим образом. Мигранту необходимо уведомить органы власти на месте прежнего проживания о своем переезде, получить разрешение собрания скотоводов бага (низовая административно-территориальная единица) и органов власти на месте нового поселения. Хурал (собрание) бага дает свое принципиальное согласие на принятие нового члена, представители же администрации района выделяют конкретное место проживания и пастьбы скота в зимний период (зимник), как правило, в распадках и ущельях. Из всех видов пастбищ наиболее защищенными в правовом отношении являются зимние и весенние.
Наиболее выгодные и лучшие пастбища используются местным населением, которое называет себя «нэг нутгийнхан» ( neg nutgiinkhan ), или, по-другому,
«нэг усныхайн» ( neg usniikhan ) [Bazargur 2002]. Поэтому кочевники-мигранты вынуждены занимать менее удобные пастбища. Маршруты кочевок при высокой плотности кочевых домохозяйств становятся все более фиксированными и устойчивыми. Вольное занятие пастбищ вызывает открытое недовольство со стороны местных жителей. Согласно традиционным представлениям, летние пастбища находятся в общем владении, и право пользования ими основывается на принципе первозахвата. Из-за высокой плотности и нагрузки на пастбища вполне ощутимыми становятся границы выпаса домохозяйств. Пересечение их пришлым кочевым домохозяйством требует уже согласования близлежащих аилов (хозяйств).
Опыт хозяйствования в условиях резко пересеченной местности позволяет занимать в пользование зимние и весенние пастбища, с точки зрения местных кочевников, менее благоприятные и менее удобные. В безводных пространствах приезжие мигранты кооперируются для бурения скважин на воду, таким образом осваивая ранее непригодные летние пастбища. Вследствие этих действий снижается социальная напряженность между мигрантами и местным кочевым населением.
На сегодняшний день поток внутренней миграции сокращается. Основными причинами спада миграции в направлении центральных районов стали высокая плотность кочевых хозяйств, увеличение посевных площадей, запреты на поселение со стороны местной администрации. Косвенное значение имело и развитие дорожной сети с твердым покрытием, которая соединила отдаленные регионы страны.
Таким образом, традиционное природопользование кочевников Монголии поставлено в новые условия, диктуемые современным развитием страны. В основе поземельных конфликтов лежит как правовая неурегулированность, пробелы в законодательстве, так и социально-экономические причины. Обострение противоречий связано с развитием горнодобывающей промышленности, растениеводства, с усилением миграционных процессов. Усугубляют положение диспропорции в территориальном развитии, которые способствуют социальной напряженности в центральных регионах страны.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту № 0338-2016-0003 «Межкультурное взаимодействие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии».
Список литературы Традиционное землепользование кочевников Монголии и поземельные конфликты
- Бадараев Д. Д. 2014. Современные «ниндзя»: масштабы и последствия для Монголии. -Власть. № 4. C. 130-134
- Barcus H.R. 2018. Contested Space, Contested Livelihoods: A Review of Mongolia's Pastureland Management and Land-Tenure Reform. -Geographical Review. Vol. 108. No. 1. P. 138-157
- Bazargur D. 2002. Territorial Organization of Mongolian Pastoral Livestock Husbandry in the Transition to a Market Economy. -Focus on Geography. Vol. 47. No. 1. P. 20-25
- Janzen J. 2009. Changes in the Mongolia Pastoral Economy during the Transformation Period. -Nomadic Studies. No. 16. P. 7-16
- Mearns R. 2004. Decentralisation, Rural Livelihoods and Pasture-Land Management in Post-Socialist Mongolia. -The European Journal of Development Research. Vol. 16. No. 1. P. 133-152
- Myadar O. 2009. Nomads in Fenced Land: Land Reform in Post-Socialist Mongolia. -Asia Pacific Law and Policy Journal. Vol. 11. P. 161-203
- Rossabi M. 2005. Modern Mongolia: from Khans to Commissars to Capitalists. University of California Press. 418 p
- Sneath D. 2003. Land Use, the Environment and Development in Post-Socialist Mongolia. -Oxford Development Studies. Vol. 31. No. 4. P. 441-459