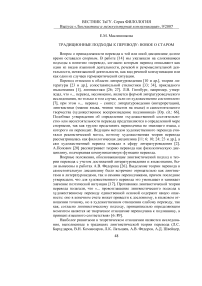Традиционные подходы к переводу: новое о старом
Автор: Масленникова Евгения Михайловна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 9, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120481
IDR: 146120481
Текст статьи Традиционные подходы к переводу: новое о старом
ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРЕВОДУ: НОВОЕ О СТАРОМ
Вопрос о принадлежности перевода к той или иной дисциплине долгое время оставался спорным. В работе [14] мы указывали на сложившиеся подходы к понятию «перевод», согласно которым перевод описывают как один из видов языковой деятельности, речевой и речемыслительной деятельности, метаязыковой деятельности, как вид речевой коммуникации или как один из случаев герменевтической ситуации.
Перевод относили к области литературоведения [10 и др.], теории литературы [23 и др.], сопоставительной стилистики [33; 34], прикладного языкознания [1], лингвистики [26; 27]. Л.В. Гинзбург, например, утверждал, что «... перевод, несомненно, является формой литературоведческого исследования, но только в том случае, если он художественно состоятелен» [7], при этом «... перевод – синтез: литературоведения (интерпретация), лингвистики (знание языка, чтение текстов на языке) и самостоятельного творчества (художественное воспроизведение подлинника)» [Op. cit.: 66]. Подобные утверждения об определении «художественной состоятельности» или несостоятельности перевода представляются в определенной мере спорными, так как трудно представить переводчика не знающего языка, с которого он переводит. Ведущим методом художественного перевода считался реалистический метод, поэтому художественная теория перевода рассматривалась как филологическая дисциплина [11; 6; 10; 24; 23 и др.], а сам художественный перевод попадал в сферу литературоведения [2]. А.Попович [20] рассматривает теорию перевода как филологическую дисциплину, подчеркивая коммуникативную функцию перевода.
Впервые положения, обосновывающие лингвистический подход к теории перевода с учетом достижений литературоведения и языкознания, были вынесены в работах А.В. Федорова [26]. Выделение теории перевода в самостоятельную дисциплину было встречено отрицательно как лингвистами и литературоведами, так и самими переводчиками, причем последние утверждали, что для художественного перевода это уменьшает и занижает значение поэтической интуиции [17]. Противники лингвистической теории перевода полагали, что «... провозглашение лингвистического подхода к художественному переводу единственной основой содержит явную опасность: оно в конечном счете может привести к дословному, в языковом отношении точному, но в художественном отношении слабому переводу, так как, согласно лингвистическому подходу, принципиально определяющим моментом является не творческое отношение переводчика к подлиннику, а принцип языкового соответствия» [6: 89].
Наиболее развитыми в теоретическом отношении являются исследования, выполненные в традициях лингвистической теории перевода (Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Л.К. Латышев, А.В. Федоров, А.Д. Швейцер,
Дж. Кэтфорд, О. Каде, Ю. Найда и др.). Лингвистическая теория перевода ставит своей целью объяснить закономерности преобразования текста, созданного на одном языке, в текст на другом языке. В рамках лингвистической теории перевода разрабатывались классификация переводческих соответствий (Я.И. Рецкер), теория уровней эквивалентности (В.И. Комиссаров). Для описания и анализа перевода как результата привлекался лингвистический понятийный аппарат, использовался метод компонентного анализа. Отдельные понятия заимствовались из теории коммуникации, теории информации, теории машинного перевода, порождающей грамматики, семантики (см. подробнее: [22; 29; 30]). Задача лингвистической теории перевода виделась в выявлении и установлении наиболее общих закономерностей переводческих решений.
Литературоведческий подход к художественному переводу предполагает целостный анализ эстетико-стилистической организации художественного произведения, поэтому М.А. Новикова [18] выделяет лингвостилистический и стилистико-контрастивный подходы к переводу, что позволяет, по ее мнению, установить интерпретационные «ресурсы», соотносимые с личностными переводческими стилями.
Получила толчок к развитию так называемая «жанровая» теория перевода [8; 9 и др.], занимающаяся вопросами воспроизведения жанровых особенностей текста оригинала средствами переводящего языка.
Принимая во внимание тот факт, что при переводе «имеет место не тривиальное перекодирование, а действуют тонкие многозначные соответствия между знаками двух (и более) систем» [21: 245], И.И. Ревзин говорит о семиотической направленности теории перевода, при этом теория перевода «должна помочь понять некоторые общие принципы оперирования со сложными знаковыми системами, для того чтобы усовершенствовать семиотическую теорию применительно к области гуманитарных наук, используя опыт, накопленный практикой лучших переводов и литературной критикой в области перевода» [Indem.].
А.Н. Крюков [13] подчеркивает необходимость разработки методологических основ интерпретативной концепции перевода и предлагает в качестве таковой герменевтическую модель перевода. Герменевтическая модель перевода опирается на понятия интенционального смысла, рецептивного смысла и конвенционального языкового значения. При отсутствии переводных соответствий (например, при передаче фоновых знаний) перевод как интерпретация подчиняется закону гомоморфизма рецептивного смысла интенциональному. Данная модель призвана показать, что в подобных ситуациях переводчик часто прибегает к переформулированию исходного текста оригинала.
Н.Л. Галеева [5 и др.] развивает деятельностную теорию перевода, также опирающуюся на герменевтические традиции. Разнообразные интерпретационные подходы к переводу, сложившиеся в 1980-1990-е гг., были нацелены на сохранение и передачу образной системы переводимого текста, национального колорита и национальной ментальности, а также в обеспечении «выхода» читателя, принадлежащего к системе переводящего языка и культуры, к мирам автора оригинала (например, [16]). Интерпретативная теория перевода является операциональной, так как позволяет уйти от каталогизации и объяснения технологических приемов и перейти к ког-нитивно-эмотивным категориям (подробнее: [25]).
В начале 1980-х гг. некоторые исследователи предложили развивать новый подход к переводу – психолингвистический. Так, В.И. Финагентов [28] полагает, что именно психолингвистический подход способен дать наиболее полное представление о происходящих при переводе «сбоях» и изменениях при передаче поверхностной структуры текста. А.Ф. Ширяев видит психолингвистическую проблематику перевода в изучении его психологической сущности, т.е. переводческих механизмов, когда «... применительно к переводу предмет психолингвистики составляют закономерности комплексного моделирования переводческой деятельности» [31: 70; ср. 12], а самому переводу присваивается статус одного из видов двуязычной речевой коммуникации.
Если в лингвистической теории перевода основное внимание обращено на переводческие операции по межъязыковому преобразованию, то психолингвистический подход к переводу позволяет рассматривать не только используемые лексические, грамматические средства, а также используемые (выработанные и закрепленные) способы, взятые в статике как некая заданность. Кроме этого, психолингвистический подход ориентирован на динамическую составляющую переводческой деятельности, направленную на работу со смыслами текста. Психолингвистический подход также позволяет включить переводчика в триаду «автор ↔ текст ↔ читатель» как ее полноценное звено, чья проекция текста превращается в речь-для-других-и-от-имени-других. На наш взгляд, результат переводческой деятельности, представляемый в виде текста перевода, является той проекцией текста, которая образовалась у переводчика при работе с оригиналом. Утверждение, что к художественному переводу «неприменимы логические критерии, он подвластен лишь прихоти переводчика и оценивается по своему резонансу среди читателей» [4: 145], представляется, на наш взгляд, достаточно спорным, так как не все переводы имеют одинаковый «резонанс» у читателей, например, в силу их доступности массовому читателю. Выражение «прихоть переводчика» также является неправомерным, поскольку основу переводческой деятельности составляют определенные речемыслительные действия переводчика, чья деятельность ни в коем случае не может быть описана как анархическая, не признающая никаких законов. При выборе текста для перевода «прихоть переводчика» проявляется «... на скрещивании нескольких внешних стратегий (общественная, культурная, политическая, литературная, экономическая – например, состояние книжного рынка и т.п.) с внутренней стратегией переводчи- ка» [20: 56], т.е. выбор текста обусловлен общими потребностями среды принимающего языка.
Для усиления теории перевода было бы естественно привлекать некоторые положения исследований, выполняемых в русле лингвокультуроло-гии, психостилистики, психопоэтики и этнопсихолингвистики.
Этноязыковое контактирование обеспечивается взаимодействием двух и более культур, которые унифицируются путем заимствования и модифицирования образов, сюжетов, нарративных схем и т.д. Подобные заимствования и модификации являются своего рода проявлением культурологической компенсации, возникающей при обращении к культурной памяти определенного социума и общей (универсальной) культурной памяти. Билингвизм, к сожалению, не подразумевает бикультурализм, т.е. овладение языком как таковым не включает в себя овладение системой культурных ценностей, характеризующих страну изучаемого языка. В силу нахождения коммуникантов в одном временном отрезке отдельные сигналы, отражающие специфику «чужой» культуры (имена собственные, реалии и т.д.), можно «расшифровать», а некоторые – нет.
Лингвокультурология (см.: [15]) и теория перевода близки в изучении безэквивалентной лексики и лакун. Лакуны получают статус сигнала специфики лингвокультурной общности и инструмент исследования понимания инокультурного текста. Предметом лингвокультурологии являются представления, стереотипы, ценности, образы-эталоны, свойственные для обыденного житейского сознания носителя другой культуры.
Психостилистический подход к переводу способствует описанию влияния психики переводчика на получаемый текст перевода. Выработанные психостилистикой методы [3 и др.] помогают проследить степень выраженности эмоционально-смысловой доминанты в переводе по сравнению с оригиналом, а также соотнести тип текста с соответствующим типом порождения и воздействия.
Психопоэтика [19 и др.] изучает психологию восприятия художественной литературы, в особенности стихотворной речи, и опирается на понятие «личностного смысла», заложенного в тексте автором и/или приписываемого тексту читателем в зависимости от собственных позиций и установок. Использование отдельных положений психопоэтики способно облегчить теоретикам и практикам перевода каталогизацию комбинаций тех качеств - функций, которые характеризуют того или иного автора, литературное направление и т.п. В этом случае можно говорить о реконструкции онтологических и экзистенциальных путей автора текста, которую должен произвести переводчик на этапе пред - переводческого анализа текста.
Этнопсихолингвистика близка теории перевода в том отношении, что ее основная проблематика вращается вокруг национальной специфики слова, лакун, гипотезы лингвистической относительности, отношений «язык ↔ культура». В этом отношении для теории перевода особенно актуаль- ным будет представление способов опредмечивания и распредмечивания «своих» и «чужих» артефактов, а также исчисление возможностей для выхода в национально-культурную спецификацию «другого» как «чужого», поскольку перевод является средством межкультурного общения.
Проекционный характер перевода позволяет обратиться к понятию «личностного смысла» и говорить о степени сходства и/или различия между переводами - проекциями, устанавливаемыми относительно текста оригинала, который признается эталоном для всех имеющихся и потенциально возможных переводов. В этом случае также можно говорить об интертекстовом сравнении нескольких переводов одного и того же текста. Анализ нескольких переводов текста позволяет выявить уровень и частотность стереотипных реакций, их сходство и/или различие не только по отношению к одному и тому же слову в оригинале, но и по отношению к целому тексту.
Отдельное слово может актуализировать всю систему своих связей с другими словами. Слово имеет тройственную сущность, благодаря которой оно одновременно бытует в Мире слова, в Мире текста и в Мира автора, выстраивая свое собственное ассоциативно-смысловое поле.
При переводе возможны ситуации, когда происходит замена одного содержания другим, равноценным по смыслу. Процесс поиска переводчиком смысловых опорных пунктов для определения «важного» в тексте, т.е. что - есть - текст - для - меня, идет индивидуально в каждом случае. Получаемая информация о Мире автора, Мире текста и Мире слова преломляется через призму индивидуального опыта, систему знаний и мировоззрение. Таким образом, в отношениях с исходным текстом оригинала имеет место некоторая субъективность, когда случаются попытки не только собственно «перевести» текст в прямом смысле этого слова, но и дать читателю свое истолкование.
Возможно, что применение при анализе переводов метода ассоциативного эксперимента поможет выявить, во-первых, лингвокультурные особенности переводческой деятельности, а, во-вторых, определить уровень стереотипности переводческих реакций, что, в свою очередь, даст выход на оптимизацию практической деятельности переводчиков.
Перевод представляет собой полноценную коммуникативную деятельность, а его целью признается «создание прагматически эквивалентного транслята, который сохранял бы в себе инвариант сообщения. Поэтому исходными элементами для перевода должны быть не единицы языка, а смысл и коммуникативная функция речевого произведения. Каждая речевая культура при реализации некоторой коммуникативной функции использует набор национально-маркированных речевых стратегий и тактик, обусловленных национальным "видением" особенностей коммуникативной ситуации» [32: 137]. Данное утверждение позволяет говорить об инвариантных смысловых структурах и об инвариантах по семантическим пара- метрам, а также окончательно отойти от традиционного сравнительностилистического анализа. Учитывая, что на современном этапе своего развития перевод, в особенности перевод поэтический, напоминает свободные ассоциации на «заданную тему», особое значение получает интертекстовое сопоставление ассоциативных полей отобранных слов.
Новую предметную область теории перевода могут составить исследования, касающиеся:
-
• стратегий выделения переводчиками смысловых опор при работе с текстом;
-
• роли слова при оценке переводчиком лексических связей в тексте и при выделении фокуса текста;
-
• влияния специфики ядра лексикона переводчика как носителя языка на его работу с текстом и в тексте;
-
• определения степени включенности личностной области переводчика в его деятельность;
-
• влияния культурных смыслов на перевод как процесс и как результат;
-
• роли конвенциональных стереотипов при понимании текста;
-
• описания типоформирующих переводческих факторов (назначение текста, тип аудитории / читателя и т.п.);
-
• влияния ситуативных и контекстуальных факторов на деятельность переводчика;
-
• особенностей межкультурного восприятия и понимания текста;
-
• осмысления перевода как одной из ситуаций общения между представителями разных лингвокультур;
-
• культурно-языковой компетенции переводчика как посредника между двумя языками и двумя культурами.
В данной статье сделана попытка описать параметры, лежащие в основе сложившихся направлений в теории перевода. На наш взгляд, назрела необходимость не столько пересмотра исходных «чистых» положений, сколько усиления междисциплинарного статуса теории перевода, в которой на первый план выходит динамический компонент переводческой деятельности. Ограниченность лингвистической теории перевода предопределили в значительной мере как ее достижения, так и неудачи. Пришло время для развития теории перевода как таковой в более широком контексте.