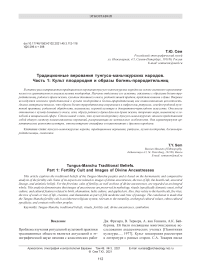Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 1: культ плодородия и образы богинь-прародительниц
Автор: Сем Т.Ю.
Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru
Рубрика: Этнография
Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов на основе системно-герменевтического и сравнительного анализа культа плодородия. Изучены отдельные его аспекты, связанные с образами богинь-пра-родительниц, родового древа жизни, культом домашнего очага, родовой линией предков, представлениями о душе. Впервые исследуется комплекс представлений о культе плодородия и богинь-прародительниц как взаимосвязанная целостность. Анализ материала показал, что образы богинь-прародительниц сохранились в мифологии, ритуалах, семейно-родовой культовой практике, родильной обрядности, шаманизме, игровой культуре и декоративно-прикладном искусстве. Они имели отношение к культу домашнего очага, огня, образу родового древа душ или древа жизни, творению мира, шаманизму в лечебной и инициальной сфере. Сделан вывод о том, что культ плодородия у тунгусо-маньчжурских этносов представляет собой единую систему взаимосвязанных верований, раскрывающих их ментальные особенности. Они характеризуют ар-хетипические ценности культуры, этнокультурную специфику и взаимовлияния с другими народами.
Тунгусо-маньчжурские народы, традиционные верования, ритуалы, культ плодородия, богини-прародительницы, символика
Короткий адрес: https://sciup.org/145146305
IDR: 145146305 | УДК: 299.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.112-118
Текст научной статьи Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 1: культ плодородия и образы богинь-прародительниц
Проблема изучения ритуальной культовой практики традиционных обществ является актуальной в этнографической науке начиная с классических работ
Дж. Фрезера, В. Тернера, А. ван Геннепа, А.К. Бай-бурина. Ей были посвящены многочисленные исследования академических ученых [Памятники культуры…, 1977]. Культ плодородия рассмотрен в литературе с разных сторон. С.А. Токарев писал
Археология, этнография и антропология Евразии Том 49, № 3, 2021 © Сем Т.Ю., 2021
о нем на уровне ранних форм религии как о семейнородовом культе домашнего очага, а также в рамках аграрного культа [1964, с. 252–265, 378–392]. Б.А. Рыбаков исследовал культ плодородия на уровне образа богини-прародительницы у славян [1981, с. 438–470]. Е.А. Торчинов рассматривал его в жреческих обществах как культ Великой Богини-Матери [1998, с. 108–131]. В каждой этнической общности культ плодородия характеризуется как общечеловеческими представлениями и ценностями, так и конкретно-историческими особенностями. Этнография как наука сочетает изучение обеих этих составляющих. Поэтому важно исследовать общее и особенное в культе плодородия. Эта тема была изучена на конкретных материалах разных народов мира. Культ плодородия у тунгусо-маньчжурских народов исследован слабо, в основном рассмотрены отдельные его элементы. С.М. Широкогоров изучил эвенкийскую систему шаманских духов-помощников [1919, с. 14–19]. И.А. Лопатин кратко описал кул ьт хозяина дома Джулина в культуре нанайцев [1922, с. 222–223], А.Ф. Анисимов рассмотрел образ духа огня Того-мушун у эвенков как отдельный элемент верований [1958, с. 93–97]. А.В. Смоляк исследовала систему духов-помощников шамана у нанайцев, включив в их состав божества плодородия [1991, с. 13]. С.В. Березницкий на широком сравнительном материале по народам Амура изучил разные аспекты верований с целью выделения этнокультурных влияний [2003]. Мною проблематика культа плодородия у тунгусо-маньчжурских народов рассмотрена с позиции различных персонажей, впервые предложена типология божеств плодородия [Сем, 2013, с. 114–178]. Настоящее исследование продолжает анализ этих образов уже в комплексе всех составляющих культа.
Целью работы является изучение общих особенно стей и этнокультурной специфики кул ьт а плодородия у разных тунгусо-маньчжурских народов в системе традиционных верований с позиции семантического анализа образов богинь-прародительниц. Рассмотрена связь этих образов с представлениями о творении мира, родовом древе жизни (дереве душ), душах людей и душе-зародыше; с культом семейнородового домашнего очага, родовой линией предков. Комплекс представлений о культе плодородия и богинь-прародительниц у тунгусо-маньчжурских народов впервые изучается как взаимосвязанная целостность. Исследование проводится на уровне анализа фольклорных данных, верований и ритуалов, шаманства, декоративно-прикладного искусства, игровой культуры. В работе используются сравнительно-со-по ставительный, сравнительно-исторический, системный, семантический, герменевтический, иконографический методы.
Материалы исследования
Образ богини-прародительницы и творца мира и людей. В системе верований тунгусо-манчжурских народов культ плодородия был связан с образами богинь-прародительниц в мифологии, семейно-родовых, родильных и шаманских обрядах. Его истоки сохранились в мифах о творении мира и людей. Так, у нанайцев в шаманской песне, исполняемой на больших поминках, великая богиня Мамель-джи творит мир, размешивая текущие из мирового океана воды рек в образе змей, и создает землю, поверхность которой помогает ровнять ее муж – божество плодородия Гуранта [Липские, 1936, л. 48]. Эта богиня из капли своей крови создает первых людей [Лопатин, 1922, с. 237].
Согласно маньчжурской мифологии, великая богиня-прародительница, хозяйка Вселенной Абуга-хэ-хэ вместе с созданной ею богиней земли Манга-хэхэ творит мир посредством музыкального инструмента – бубна и колотушки, которые ассоциируются со стихией водного хаоса неба (женское начало в мифологии) и мировой горой (мужское начало в мифологии). Ивой Абуга-хэхэ размешивает воды, вырастает мировая гора, при этом раздаются звуки бубна как символ акта творения мира богиней [Wang Honggang, 1993, p. 48]. В данном мифе зафиксирован шаманский уровень, связанный с музыкой сфер. Согласно М. Гранэ, в древней китайской мифологии при творении мира также используется музыкальный струнный инструмент, изготовленный из мирового древа Фусан (см.: [Шишло, с. 1991, 200]). По представлениям забайкальских эвенков XVIII в., верховное небесное божество Буга для творения мира имело гусли, которые испортил его брат демон Бунинка, творец и хозяин нижнего мира [Спасский, 1822, с. 44]. Предположительно образ струнного музыкального инструмента эвенков ассоциировался с женской утробой. Подобные представления были известны айнам. У амурских эвенков акт творения мира в новогоднем ритуале обозначен криком гагары, которая, согласно космогоническому мифу, участвовала в добывании песчинок и ила со дна мирового океана [Варламова, 2002, с. 29–30; Василевич, 1936, с. 29–30]. В эвенской мифологии есть сюжеты, где Земля появилась в результате пения [Фольклор эвенов…, 2005, с. 206].
Образ богини огня и домашнего очага. По материалам конца XIX – середины ХХ в. известны тунгусо-маньчжурские образы богинь-прародительниц, связанные с культом огня и родового древа душ. Нанайцы и удэгейцы вырезали их изображения из дерева. Наиболее древний вариант, сделанный из камня, был найден в огороде одного из нанайцев нижне- го Амура. Он датируется археологами VI–XII вв. [Okladnikov, 1981, p. 30]. Идолы имели восьмеркообразную форму без ножек.
Представления о богине огня восходят к чжур-чжэньской эпохе. При раскопках Шайгинского городища были найдены восьмеркообразные разомкнутые снизу металлические фигуры, похожие на переплетенных змей. Они находились у очага в жилище, на основании чего Э.В. Шавкунов высказал предположение об их отношении к культу огня и связал с богинями огня [1990, с. 269]. У уйльта Сахалина, периферийного тунгусо-маньчжурского этноса, сохранился аналогичный образ. На костяной луке оленьего седла имелось резное украшение в виде восьмеркообразной фигуры с разомкнутыми концами, которые были подобны змеям и интерпретировались местным населением как богини огня (РЭМ, кол. 8761-8017, 11452).
Наиболее четко восьмеркообразные предметы связаны с образом богини огня у тунгусо-маньчжурских народов Амура (нанайцев, негидальцев, удэгейцев), уйльта Сахалина, эвенов Охотского побережья Дальнего Востока, эвенков Якутии. Нанайцы делали восьмеркообразные фигуры Джулина – родового первопредка, духа-хозяина домашнего очага [Сем, 2003, с. 172–173]. Позднее их стали изготавливать в уплощенной форме с ногами, квадратным туловом и круглой головой, но семантика сохранилась. Негидальцы изображение хозяина дома Маси вырезали из дерева в виде двух шаров и оборачивали медвежьей шкурой (РЭМ, фотокол. 4701-46). У шаманов он считался инициальным духом-покровителем [На грани миров…, 2006, с. 64]. Деревянная восьмеркообразная фигурка удэгейской прародительницы, обернутая стружками (символ огня), хранилась в корьевом коробе. Она сохранила наиболее древний вид. По данным коллекционной описи Приморского краеведческого музея, эта богиня была связана с домашним очагом и огнем [Осокина, 1977, с. 100, рис. 5, 4 ].
На женских нагрудниках эвенов (обязательный элемент традиционной одежды в сочетании с распашным кафтаном) бисером вышивался восьмеркообразный орнамент, считавшийся символом богини огня, причем он сочетался с кружками, символизировавшими солнце. Эти образы в мировоззрении тунгусоманьчжурских народов были взаимосвязаны. Огонь рассматривался как лучик солнца [Сем, 2015, с. 422, 426, 429]. Аналогичный орнамент был на подоле женских кафтанов якутских эвенков. Восьмеркообразные фигуры находились на уровне детородных органов женщины. Такое расположение свидетельствовало об их связи с богиней-прародительницей. Название этого орнамента у эвенов означало «бессмертие», связанное, полагаю, с представлениями о перерождении душ [Там же, с. 302, 306, 440]. Таким образом, восьмеркообразная фигура на одежде эвенов и эвенков связана, с одной стороны, с представлениями о душе человека, с другой – с образом богини-прародительницы. У эвенов ее символом была паучиха, изображение которой вышивали бисером на женских сумочках. Паучиха считалась бабушкой-прародительницей. А.А. Бурыкин сопоставляет эти представления с мифологией североамериканских индейцев, где паук являлся творцом мира, и видит в них древний субстратный пласт в Сибири [1985, с. 38, 41–44].
В Сахалинском краеведческом музее хранится старинный женский свадебный нагрудник уйльта начала ХХ в., на котором имеются бронзовые подвески. Две из них в виде кружка с двумя завитками и листочком в центре – символа солнечного дерева жизни, хозяйкой которого считалась богиня-прародительница, – одна в виде крестообразно расположенных кружков, символизирующих четыре стороны света и солнце. Внизу нагрудника пришиты шесть лапчатых подвесок, являющихся, по словам местных мастериц, символами богини-прародительницы. В центре нагрудной части располагается восьмеркообразная подвеска усложненной формы с тремя маленькими кружками вверху, обозначающими голову и женскую грудь, – также символ богини-прародительницы, вероятно связанный с домашним очагом (СОКМ, кол. 2338-24) [Прокофьев, Черпакова, 2009, с. 164]. Интересно отметить, что восьмеркообразный орнамент прослеживается у тунгусского населения Южного Сахалина с эпохи чжурчжэней (IX–XII вв.). На поселении Белокаменная-Часи позднего периода охотской культуры была найдена керамика типа мина-ми-кайдзука с восьмеркообразным орнаментом в сочетании с зигзагом и кружками [Шубина, 1996, с. 235].
Таким образом, у тунгусо-маньчжурских народов богиня-прародительница отождествлялась с богиней огня. Однако у енисейских эвенков произошло их разделение. Богиня огня Того-мушун считалась помощницей богини Бугады-энин – хозяйки вселенной, родовых гор, дерева душ: последняя выращивала на родовом дереве души людей и зверей, а богиня огня сохраняла эти души и воспитывала их в родовом очаге [Анисимов, 1958, с. 99–101]. Согласно верованиям удэгейцев, хозяйкой солнечного дерева душ, а также зверей и растительности была Тагу-мама, живущая с мужем Канда-мафа, хозяином зверей и лунного дерева погоды, на огромной горе до небес (символ мировой горы) [Фольклор удэгейцев…, 1998, с. 33, 469].
По представлениям забайкальских эвенков, душа шамана рождается в ритуальном очаге, хозяином которого является первопредок в образе медведя, а его помощниками-охранителями - четыре человечка аня-кана, воплощения душ умерших предков ханя (РЭМ, кол. 5093-147) [На грани миров…, 2006, с. 119]. Интересно, что у народов Амура и Сахалина (удэгейцев, уйльта, нанайцев) медведь считался предком рода, мужем богини-прародительницы и хозяйки плодородия, хозяином огня, фигурки которого также делали из дерева (РЭМ, кол. 11429-7,8) [Сем, 2015, с. 285].
В шаманский лечебный комплекс уссурийских нанайцев входили деревянные фигурки богини плодородия Майдя-мама (она же богиня-прародительница, хозяйка дерева жизни) в одежде из шкуры косули или кабарги, чей образ она могла принимать, ее мужа Аями в образе медведя и травяная фигурка их помощницы Чадиланги со змеей в руке. Все они были связаны с культом огня. Майдя-мама, Аями или божество плодородия Ерхий-мерген отвечали за рождение детских душ, выраставших на родовом солнечном дереве жизни [Там же, с. 285, 296]. Интересно в связи с этим сопоставить упомянутый ранее негидальский шаманский инициальный образ Маси – хозяина домашнего очага. Его деревянное изображение восьмеркообразной формы было обернуто в шкуру медведя. Как видим, здесь двойная семантика связи с огнем.
Образ богини-прародительницы, связанный у тунгусо-маньчжурских этносов с огнем домашнего очага, имеет аналогии в верованиях тюркоязычных народов Южной Сибири (Умай, Май-эне) [Алексеев Н.А., 1984, с. 162–163; Потапов, 1973, с. 275]. Нанайский Джулин сопоставим с Дзаячи – богом-творцом тюркомонгольских этносов [Потапов, 1991, с. 200; Неклюдов, 1994].
Родовая линия предков. Образ мусу – родовой линии предков – сохранился у тунгусо-маньчжурских народов в представлениях о богинях плодородия и прародительницах. Например, у маньчжуров символом богини-прародительницы (Фодо-мама) была генеалогическая веревка, изображающая дерево жизни, с подвесками – пучками волос, моделями луков, костями плюсны свиньи [Guo Shuyung, Wang Honggang, 2001, p. 141–142]. А в представлениях нанайцев ее образ выглядел как вертикаль из фигур богинь, следующих одна за другой. Такое многоступенчатое изображение богини-прародительницы как родовой линии предков имелось на нанайских берестяном сосуде и головном уборе женщины [Сем, 2015, с. 291, 293]. Интересно, что данный образ в геометрическом изображении присутствует на петроглифах Монголии и в иероглифической письменности древних китайцев [Новгородова, 1989, с. 100–101]. Сунгарийские нанайцы устанавливали на улице рядом с домом столбики с личинами – символы родовой линии предков [Lattimore, 1933, fig. 6]. У енисейских эвенков такими символами были многоступенчатые антропоморфные фигуры Хомокон (МАЭ, кол. 1004-6) [Иванов, 1970, с. 172].
В шаманизме нанайцев и эвенков под мусу понимается сила плодородия природы. Шаманы этих народов совершали обряд уунди, цель которого получить у верховных богов неба счастье для участников, обновить и укрепить шаманскую силу. Шаман совершал шествие вокруг селения, заходил в жилища родных и кружил вокруг огня, который считался местом сосредоточения душ людей. Участники ритуала держались за шаманский пояс, к которому был прикреплен десятиметровый ровдужный ремень в виде туловища и голов змея, а к нему подвешены цветные лоскутки ткани, придававшие птичью символику. Таким образом, пояс с ремнем символизировал птицезмея, главного шаманского духа-покровителя. С его помощью шаман отгонял злых духов и привлекал силы плодородия природы. А.В. Смоляк связывает этот обряд с родовой линией предков [1991, с. 173, 179]. У эвенков также существовали представления о мусун – силе движения, присущей любому явлению природы. Ею обладали духи-хозяева различных природных объектов, стихий, ритуальные предметы. Слово мусун входит в имена божеств природы, например, Того-мушун – богиня огня [Василевич, 1969, с. 227–228].
Представления о душе-зародыше и родовом дереве душ. У тунгусо-маньчжурских народов образы богини-прародительницы, первопредка, божества плодородия связаны с образами душ-зародышей, которые изображаются в виде запятой, как восточно-азиатские магатамы . Подобные завитки часто встречаются в криволинейном орнаменте народов нижнего Амура (нанайцев, ульчей, удэгейцев) рядом с изображениями птиц, деревьев душ и их хозяйки – богини плодородия [Краски…, 1982, с. 85, 94]. Удэгейский шаман Кимонко в 1927 г. сделал для собирателя Е.Р. Шнейдера три фигурки – символы развития души человека. Первая С-образная типа магатамы с пуговицей в центре, изображающая душу-жизнь ерга ; вторая в виде стрекозы без крыльев, третья – антропоморфная фигура с крыльями вместо рук, как развитие души оми (птички на деревьях душ) до души-тени или двойника ханя (РЭМ, кол. 5656-180/1-3) [На грани миров…, 2006, с. 91]. Итак, на Амуре образ души имел метафорическое развитие от зародыша до насекомого и человека-птицы.
В традиционных верованиях тунгусо-маньчжурских народов Амура (нанайцев и ульчей), Приморья (удэгейцев) и Сибири (эвенков, эвенов и орочонов) существовали представления о родовых деревьях душ или деревьях жизни [Липская-Вальронд, 1925, с. 6; Мазин, 1984, с. 11], хозяевами которых была пара богов плодородия в ипостаси оленей. Обязательным элементом свадебных халатов нанайцев, ульчей, негидальцев и уйльта являются вышитые (у первых цветными нитками, у о стальных подшейным оленьим волосом) изображения родовых деревьев жизни с птицами, олицетворяющими души людей на ветвях; богов плодородия и их зооморфных ипостасей в виде двух оленей. В некоторых случаях изображены деревья, обвитые змеями, – символ оси мира (РЭМ, кол. 2566-20, 21; 7005-62). Вышивки выполнены по традиции в криволинейном стиле. Эта традиция очень стойкая. В настоящее время сюжет родового дерева душ повторяется на современных панно – родовых символах нанайцев, на халатах детских кукол. Вероятно, эти куклы – олицетворение великой богини, посылающей силы плодородия людям в виде зародышей душ [Чадаева, 1986, с. 39], символы семейно-родовых охранителей [Ро сугбу, 1998]. В шаманском обряде эвенков и эвенов во время новогоднего праздника шаман от имени участников просит у верховной богини силы плодородия природы на целый год [Мазин, 1984, с. 91; Алексеев А.А., 1993, с. 17, 41].
Интересно, что в средневековом погребении чжурчжэней, предков тунгусо-маньчжурских народов, археологами было найдено металлическое на-вершие на голову лошади в форме родового дерева душ с птицами на ветвях [Шавкунов, 1990, с. 266]. По-видимому, оно надевалось на лошадь, на которой невеста ехала верхом в дом жениха, где, переступив через порог, вставала на конское седло, принадлежащее жениху, таким образом она приобщалась к роду мужа [Стариков, 1965, с. 681]. Эвенки везли невесту в дом жениха верхом на свадебном олене [Туголуков, 1980, с. 56].
Имеется еще одна интересная аналогия – скифское навершие с Лысой горы в виде родового древа жизни с птицами на ветвях и фигурой старика-первопредка Таргитая на средней ветви [Раевский, 1977, с. 85]. В эвенкийском фольклоре сохранились образы старика-первопредка кузнеца Торонтая и медведя-предка Торганэя, имена которых сопоставимы со скифским [Романова, Мыреева, 1971, с. 212]. Известно, что в древности предки тунгусо-маньчжурских народов контактировали со скифами Алтая, продвинувшимися в Маньчжурию. Это отразилось на формировании сибирского шаманства, имеющего множество параллелей с религиозными представлениями скифов [Курочкин, 1994]. На ковре из V Пазырыкского кургана с восьмикратным повторением изображена сцена встречи богини с всадником, которые трактуются как образы богини огня Табити и сына первопредка Ко-лаксая, божества солнца, пришедшего получить дар. Богиня изображена на троне, из ножки которого как бы вырастает дерево с цветами. Поэтому она трактуется как хозяйка древа жизни [Полосьмак, Баркова, 2005, с. 146–147].
Согласно нанайским шаманским верованиям и рисунку большого шамана Богдана Оненко, шаман летел на небо к богине плодородия, где росло дерево душ с птичками, за душой ребенка для ее будущих родителей, по дороге он отдыхал на двухцветном красносинем камне, символе жизни и смерти, и летел далее во владение хозяйки солнечного дерева [Сем, 2003, с. 163–164]. Эвены считали ее женой хозяина неба и обоих главными верховными божествами [Алексеев А.А., 1993, с. 17]. По верованиям эвенков, хозяйкой солнечного дерева жизни была богиня Бугады-энин, являвшаяся также хозяйкой родовых гор и леса, душ людей и зверей, а ее мужем был лунный старик, хозяин дерева погоды. Шаманы нарисовали А.Ф. Анисимову дерево и двух богов под ним – солнечную женщину и лунного мужчину [Анисимов, 1958, с. 29, рис. 2]. Согласно удэгейской мифологии, хозяйкой солнечной горы и дерева являлась Тагу-мама, а ее мужем – хозяин дерева мороза и зверей старик Кан-да-мафа [Фольклор удэгейцев…, 1998, с. 455]. Богиня плодородия обычно изображалась у комля дерева в виде лироподобной фигуры, схематично передающей грудь, бедра и чрево женщины. Изображение мужского божества плодородия имело форму дзё-монских фигурок догу и располагалось в кроне дерева душ. Как известно, на территорию Японии в эпоху палеолита – неолита и в Средневековье мигрировали группы населения из материковой части Восточной Азии, Забайкалья, Монголии и Амура, были и более поздние миграции в обратном направлении [Васильевский, 1981, с. 153]. Поэтому неудивительно, что фигура типа догу встречается в орнаменте народов Амура (нанайцев, удэгейцев) как сохранение культурной памяти народов близкого Восточно-Азиатского региона. В связи с этим интересен древнекорейский материал. На золотой короне государства Силла, датируемой V в., изображены три родовых дерева с магата-мами – душами-зародышами людей [Лим Сан Чжон, 1980, цв. рис. 15]. Это наиболее раннее изображение родового дерева душ в Восточной Азии. Более поздние корейские материалы свидетельствуют о продолжении традиции. На подушках и платках корейцы вышивали деревья с птицами на ветвях [Pojagi…, 1989, p. 9].
Таким образом, представления о душах-зародышах и древе жизни у тунгусо-маньчжурских этносов имеют аналогии в верованиях народов Центральной и Восточной Азии (скифов, чжурчжэней, древних корейцев).
Результаты и обсуждение
Системно-герменевтический анализ религиозно-мифологических верований тунгусо-маньчжурских народов показал, что в конце XIX – ХХ в. у них существовал комплекс представлений о культе плодородия, связанный с образом богини-прародительницы, характеризующий творение мира и первых людей, хозяйку домашнего очага и огня, деревьев душ и образы душ-зародышей, родовую линию предков. В мифологии маньчжуров и нанайцев богиня-прародительница являлась творцом мира и первых людей. Согласно традиционным верованиям всех тунгусоязычных народов Сибири и Амура, она была хозяйкой домашнего очага и огня. Изображение божества в виде восьмеркообразной фигуры представлены в ритуальной скульптуре и декоративно-прикладном искусстве нанайцев, ульчей, уйльта, негидальцев, эвенков и эвенов. Родовая линия предков нашла выражение в символике изображения самой богини-прародительницы. У маньчжуров это веревка с подвесками, символизирующая родовое древо жизни, у амурских нанайцев – многоступенчатая фигура, под которой подразумевали многочисленных женщин-рожениц, у сунгарийских нанайцев и эвенков – столбик с личинами. Особое отношение к родовой линии предков было у тунгусоманьчжурских народов Амура, что нашло отражение в новогодних церемониях уунди.
С образом богини-прародительницы связаны представления о дереве жизни или родовом дереве душ и о душах-зародышах в виде завитков типа магатамы, их дальнейшем развитии в образы птичек и человечков. Они были широко распространены в верованиях эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, удэгейцев. Родовое дерево душ изображалось с птицами на ветвях и двумя оленями внизу – его символическими хозяевами. В декоративно-прикладном искусстве нанайцев, уль-чей, удэгейцев сохранились образы душ-зародышей, известные корейцам, японцам. Их изображали на свадебных халатах, родовых панно, берестяной утвари, халатах для кукол. Образ родового древа жизни имеет аналогии в свадебной обрядности чжурчжэней, в религиозных представлениях скифов.
Выводы
В результате исследования установлено, что у тунгусо-маньчжурских народов сложились архетипические признаки культа плодородия, связанные с образами богинь-прародительниц. У разных народов они имели свою этнокультурную специфику. Эти верования ментально отражали межпоколенную культурную память о мифологических творцах мира и первых людях, покровителях дома и огня, дереве душ и душе-зародыше, родовой линии предков. Составляющие единый комплекс представления сохранились в фольклоре, ритуалах, семейно-родовой культовой практике, родильной обрядности, шаманизме, игровой культуре, декоративно-прикладном искусстве. На формирование этого комплекса оказали влияние центрально- (тюркомонгольские и скифские) и восточно-азиатские (корейско-японские, чжурчжэньские) культурные традиции. В заключение следует отметить, что культ плодородия представляет собой качественную ценностную особенность верований, ритуальной практики и искусства тунгусо-маньчжурских народов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Национального центра научных исследований Франции в рамках проекта № 21-59-15002.
Список литературы Традиционные верования тунгусо-маньчжурских народов. Часть 1: культ плодородия и образы богинь-прародительниц
- Алексеев А.А. Забытый мир предков: (Очерки традиционного мировоззрения эвенов Северо-Западного Верхоянья). – Якутск: Ситим, 1993. – 94 с.
- Алексеев Н.А. Шаманизм тюркоязычных народов Сибири (опыт ареального сравнительного анализа). – Новосибирск: Наука, 1984. – 233 с.
- Анисимов А.Ф. Религия эвенков в историко-генетическом изучении и проблемы происхождения первобытных верований. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – 235 с.
- Березницкий С.В. Этнические компоненты верований и ритуалов коренных народов Амуро-Сахалинского региона. – Владивосток: Дальнаука, 2003. – 486 с.
- Бурыкин А.А. К реконструкции мифологических представлений о пауке-прародителе у тунгусо-маньчжуров и других народов Северо-Востока Азии по лингвистическим, фольклорным и этнографическим данным // Формирование культурных традиций тунгусо-маньчжурских народов. – Новосибирск: ИИФФ СО АН СССР, 1985. – С. 37–51.
- Варламова Г.И. Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора. – Новосибирск: Наука, 2002. – 375 с.
- Василевич Г.М. Сборник материалов по эвенкийскому (тунгусскому) фольклору. – Л.: Изд-во Ин-та народов Севера ЦИК СССР, 1936. – 290 с.
- Василевич Г.М. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII – начало XX в.). – Л.: Наука, 1969. – 304 с.
- Васильевский Р.С. По следам древних культур Хоккайдо. – Новосибирск: Наука, 1981. – 174 с.
- Иванов С.В. Скульптура народов севера Сибири XIX – первой половины XX в. – Л.: Наука, 1970. – 296 с.
- Краски земли Дэрсу: Фоторассказ об искусстве малых народов Приамурья. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1982. – 276 с.
- Курочкин Г.Н. Скифские корни сибирского шаманизма // Петербург. археол. вестн. – 1994. – № 8. – С. 60–68.
- Лим Сан Чжон. Культурный очерк по Корее. – Пхеньян: Изд-во литературы на иностранных языках, 1980. – 163 с.
- Липская-Вальронд Н.А. Материалы к этнографии гольдов. – Иркутск: Вост.-Сиб. отд-ние РГО, 1925. – 18 с.
- Липские А.Н. и Н.А. Материалы экспедиции. Полевые записи по теме: Большие поминки. СПб., 1936. 155 л. // Архив МАЭ РАН. Ф. 5. Оп. 2. Д. 62.
- Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские: Опыт этнографического исследования. – Владивосток: Владивост. отд. Приамур. отд-ния РГО, 1922. – [4], VI, 370 с. – (Зап. Об-ва изучения Амурского края; т. XVII).
- Мазин А.И. Традиционные верования и обряды эвенков-орочонов (конец XIX – начало XX века). – Новосибирск: Наука, 1984. – 200 с.
- На грани миров: Шаманизм народов Сибири (из истории Российского этнографического музея. СПб.). – М.: Художник и книга, 2006. – 296 с.
- Неклюдов С.Ю. Дзаячи // Мифы народов мира: энцикл. – М.: Сов. энцикл., 1994. – Т. 1. – С. 375.
- Новгородова Э.А. Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории). – М.: Наука, 1989. – 382 с.
- Осокина Э.Н. Удэгейская скульптура (вторая половина XIX – начало ХХ в.) // Вопросы источниковедения и историографии. – Владивосток: Дальневост. гос. ун-т, 1977. – С. 83–121.
- Памятники культуры народов Сибири и Севера (вторая половина XIX – начало XX в.). – Л.: Наука, 1977. – 230 с. – (Сб. МАЭ; т. XXXIII).
- Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV–III вв. до н.э.). – Новосибирск: Инфолио, 2005. – 232 с.
- Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. – М.: Наука, 1973. – С. 265–286.
- Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. – Л.: Наука, 1991. – 540 с.
- Прокофьев М.М., Черпакова К.Я. Предметы традиционной культуры уйльта и эвенков из собрания Сахалинского областного краеведческого музея // Культурное наследие народов Дальнего Востока России: Уйльта. Эвенки. – Южно-Сахалинск: Лукоморье, 2009. – С. 143–184.
- Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен: Опыт реконструкции скифской мифологии. – М.: Наука, 1977. – 216 с.
- Романова А.В., Мыреева А.Н. Фольклор эвенков Якутии. – Л.: Наука, 1971. – 330 с.
- Росугбу И.А. К вопросу о семантике ульчской игровой куклы // Фольклор и этнография народов Севера. – Якутск: Северовед, 1998. – С. 54–59.
- Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981. – 607 с.
- Сем Т.Ю. Модель мира. Пантеон божеств и предков // История и культура нанайцев: ист.-этногр. очерки. – СПб.: Наука, 2003. – С. 162–174.
- Сем Т.Ю. Верховный пантеон тунгусо-маньчжурских народов Сибири и Дальнего Востока: XIX–XX вв.: Типология и семантика образов. – Южно-Сахалинск: Сахалин. обл. краевед. музей, 2013. – 240 с.
- Сем Т.Ю. Картина мира тунгусов: пантеон (семантика образов и этнокультурные связи): ист.-этногр. очерки. – СПб.: Санкт-Петербург. гос. ун-т, 2015. – 640 с.
- Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение: (Народы Нижнего Амура). – М.: Наука, 1991. – 280 с.
- Спасский Г. Забайкальские тунгусы // Сиб. вестн. – 1822. – Ч. 17. – С. 1–66.
- Стариков В.С. Тунгусо-маньчжурские народы // Народы Восточной Азии. – М.; Л.: Наука, 1965. – С. 672–691.
- Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Наука, 1964. – 399 с.
- Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Трансперсональное состояние и психотехника. – СПб., 1998. – 382 с.
- Туголуков В.А. Свадебная обрядность: Эвенки и эвены // Семейная обрядность народов Сибири: Опыт сравнительного изучения. – М.: Наука, 1980. – С. 54–61.
- Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, ехэ / сост. М.Д. Симонов, В.Т. Кялундзюга, М.М. Хасанова. – Новосибирск: Наука, 1998. – 561 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; т. 18).
- Фольклор эвенов Березовки: Образцы шедевров / сост. В.А. Роббек. – Якутск: Ин-т малочисленных народов Севера СО РАН, 2005. – 360 с.
- Чадаева А.Я. Национальная игрушка: Очерки о древних предках детской игрушки народностей Чукотки и Приамурья. – Хабаровск: Кн. изд-во, 1986. – 93, [2] с.
- Шавкунов Э.В. Культура чжурчженей-удигэ XII–XIII вв. и проблема происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. – М.: Наука, 1990. – 282 с.
- Широкогоров С.М. Опыт исследования основ шаманства у тунгусов. – Владивосток: [Тип. Обл. зем. управы], 1919. – 62 с.
- Шишло Б.П. Тунгусский миф о творении и его культурное пространство // Реконструкция древних верований: Источники, методы, цель. – СПб.: Гос. музей истории религии, 1991. – С. 192–204.
- Шубина О.А. Этапы заселения древним человеком укрепленного поселения Белокаменная-Часи на Южном Сахалине // Вестн. Сахалин. музея. – 1996. – № 6. – С. 227–252.
- Guo Shuyung, Wang Hong-gang. Living shamans: Shamanism in China. – Shenyang: Liaoning Peoples Publishing House, 2001. – 228 p.
- Lattimore O. The Gold Tribe “Fishskin Tatars” of the Lower Sungari. – Menasha: American Anthropological Association, 1933. – 77 p. – (Memoirs of the American Anthropological Association; n. 40).
- Okladnikov A. Ancient art of the Amur region: Rock drawings, sculpture, pottery. – Leningrad: Aurora, 1981. – 159 p.
- Pojagi: Wrapping Cloths. – Seoul: Korean Overseas Information Service, 1989. – 14 p. – (Korean Heritage series; N. 9).
- Wang Hong-gang. Contemporary Manchu Shamanism in China // Shamanism and Performing arts: Papers and Abstracts for the 2nd Conference of the International Society for the Shamanistic Research, July 11–17, 1993, Budapest, Hungary / eds. M. Hoppal, Pal Paricsy. – Budapest: Ethnografi c Institute Hungarian Academy of Sciences, 1993. – P. 47–50.