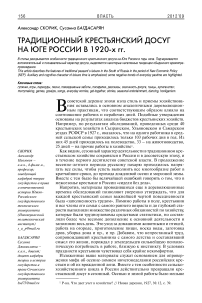Традиционный крестьянский досуг на юге России в 1920-х гг
Автор: Скорик Александр Павлович, Багдасарян Сусанна Джамиловна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 9, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрываются особенности традиционного крестьянского досуга на Юге России в годы нэпа. Подчеркивается вспомогательный и познавательный характер досуга, выделяются некоторые негативные тенденции обыденного времяпрепровождения.
Гулянки, игры, пересуды, песни, повседневные заботы, посиделки, рассказы, сезонность досуга, танцы, хулиганство
Короткий адрес: https://sciup.org/170166562
IDR: 170166562
Текст научной статьи Традиционный крестьянский досуг на юге России в 1920-х гг
В советской деревне эпохи нэпа стиль и приемы хозяйствова-ния оставались в основном аналогичными дореволюцион-ным практикам, что соответствующим образом влияло на соотношение рабочих и нерабочих дней. Подобные утверждения основаны на результатах анализа бюджетов крестьянских хозяйств. Например, по результатам обследований, проведенных среди 40 крестьянских хозяйств в Сызранском, Ульяновском и Самарском уездах РСФСР в 1927 г., оказалось, что на одного работника в сред -ней сельской семье приходилось только 103 рабочих дня в год. Из них 45 дней приходилось на полеводство, 33 — на животноводство, 25 дней — на прочие работы в хозяйстве1.
Как видим, сезонный характер деятельности в традиционном кре-стьянском хозяйстве сохранялся в России и в досоветскую эпоху, и в течение первого десятилетия советской власти. В продолжение весенне летнего периода русскому пахарю приходилось напря гать все силы, чтобы успеть выполнить все многообразие работ в кратчайшие сроки, до прихода дождливой осени и морозной зимы. Вместе с тем было бы величайшей ошибкой говорить о том, что в межсезонье крестьяне в России «сидели без дела».
Напротив, материалы проводившихся еще в дореволюционные времена обследований позволяют уверенно утверждать, что для каждой крестьянской семьи важнейшей чертой повседневности была «заполненность трудом». Помимо работы в поле, крестьянин и все члены его семьи с самого раннего возраста и до глубокой ста рости выполняли множество различных обязанностей по хозяйству, которые были трудноуловимы средствами статистики, но состав ляли более чем весомое дополнение к основной деятельности и заполняли весь день. Это уход за домашними животными и птицей, работа на огороде, приготовление пищи, носка воды, заготовка дров, уборка дома и пр., и пр. Добавим, что непрестанный труд, сопровождавший крестьянина с самого детства и составлявший смысл его жизни, порождал у земледельцев сильнейшую психоло гическую потребность в работе, близкую к инстинкту. В условиях праздности крестьянин чувствовал себя крайне некомфортно.
Изложенные выше материалы служат основанием для опровер жения мифа об осенне зимнем ничегонеделании российских кре стьян и об их врожденной лени. Вместе с тем особенности сельско хозяйственного цикла в России действительно превращали кре стьянский досуг в сезонный. Осенью и зимой работы было меньше
(но это не значит, что ее не было вовсе), так что жизнь становилась относительно спокойной. Взрослым можно было отдо-хнуть от летнего перенапряжения, а дети, которые во время полевых работ помогали родителям, отправлялись школу.
Подобный распорядок труда и отдыха сохранялся в южнороссийской деревне и в эпоху нэпа. Как вспоминал извест-ный кубанский историк В.В. Криводед, «крестьянские дети учились 2—3 зимы, в остальное время работали вместе с родителями. На вопрос: сколько клас-сов окончил? Так отвечали: одну или две зимы»1. Сезонность крестьянского досуга учитывали в своей работе и сотрудники агитационно - пропагандистских, про -светительных, культурных учреждений Советской России: «...осень уже наступила. Близок конец полевых работ. И вме -сте с тем близко то время, когда должна развернуться зимняя культурная работа в деревне. Школы, избы-читальни, клубы готовятся к своей работе»2.
В рамках относительно либеральной эпохи нэпа в Советской России (Советском Союзе) существовал ряд социально, мате -риально и кул ьтурно обусловленных вариаций досуга. В городе свои способы праздного времяпрепровождения были у сколотивших более или менее солидные капиталы нэпманов, свои — у рабочих и служащих. При этом досуг горожан и кре стьян различался весьма существенно, поскольку в данное время большевики имели мало возможностей для последо вательной реализации провозглашенного ими лозунга о стирании различий между «социалистическим городом» и деревней и превращении второй в некое подобие первого.
Крестьянские способы отдыха от забот были, безусловно, менее разнообразны, чем в городе, что сильно обижало зем ледельцев. Неприветливое отношение хлеборобов к «жирующим» горожанам хорошо передал один из добровольных корреспондентов «Крестьянской газеты» в своем письме в редакцию в 1927 г.: «...городам дана привиллегия, разные раз -гулы, пивные и кондитерские, рестораны, театры и проч., чисто одеваются, хорошо едят...»3
В условиях размеренной, бедной неор динарными событиями сельской жизни, сопровождавшейся столь же размеренным и однообразным досугом, любое выби вающееся из общего ряда происшествие привлекало к себе живейший интерес крестьян. Возможность обсудить это про исшествие или поглазеть на него стано вилась наилучшим способом заполнения свободного времени. Экстраординарные явления, провоцировавшие громад ный интерес сельской общественности и заметно разнообразившие праздное времяпрепровождение, были редки в деревне (как, впрочем, и везде). Поэтому повседневный досуг крестьяне проводили совершенно иначе. Распространенными формами досуга в доколхозной советской деревне 1920 -х гг. оставались посиделки и гулянья.
В общем-то, посидеть и поговорить в свободное от работы время в деревне можно было вечером на крыльце дома, на лавочке у подворья или на любой другой поверхности, пригодной для этих целей. Это был наиболее доступный и потому распространенный на селе способ отдо хнуть вечерком от забот. Констатируя оче видные вещи, участники проходившего в конце января 1926 г. совещания секрета -рей сельских ячеек компартии Донского округа Северо - Кавказского края говорили: «...казачество и крестьянство больше всего собираются вечером [отдохнуть]»4. Да и в других зарисовках сельской жизни, сде ланных в 1920-х гг., нередко встречаются бесхитростные упоминания о том, что по вечерам в деревнях «бабы на крыльце лущат семячки, сплетничают и смеются»5, занимаются «разговорами... лущением семечек и смехом»6.
Обычно посиделки устраивались вече -ром, дома у какой либо крестьянки (зача стую для этого арендовали чье либо жилое помещение, чтобы не стеснять семью). Приглашенные участницы и участники могли приходить с пустыми руками или же приносить с собой угощение. Также практиковалась складчина деньгами, а на получившуюся сумму уже покупали и заказывали все необходимое. Как писал один из сельских корреспондентов в 1927 г., «каждый участник вечорки, хло-пец или дивчина, несет туда по установив -шемуся обычаю рублевку, а то и две... на каждую вечорку нужно гармошку нанять за 2 рубля... магарыч музыкантам рубля на 2... водки на каждой вечорке выпьют не меньше, чем по 10 бутылок»1.
Поскольку вся жизнь крестьян была заполнена трудом, посиделки нередко сопровождались совместной работой, которая рассматривалась при этом как полезное дополнение досуга (по прин-ципу: «совместить приятное с полезным»). Обычно такие посиделки были чисто жен -скими. Один из сельских корреспонден тов газеты «Молодой ленинец» в сентябре 1925 г. со знанием дела описал подобного рода специализированную по гендерному признаку форму досуга. Хотя это описа-ние чрезвычайно обширно, мы полагаем необходимым процитировать большую его часть, что объясняется важностью содержащейся в нем информации.
«В основе посиделок, — отмечал скрывшийся за псевдонимом Ч. корреспондент, — лежит совсем не стремление к развле-чениям, как думают некоторые, — поси-делки возникли из чисто экономических и хозяйственных потребностей деревни, или, точнее сказать, женской части ее населения. Для рукоделия в течение дня у деревенской женщины времени нет. В ее распоряжении остается вечер, после уборки скота. За пряжей, шитьем, вяза -ньем женщины засиживаются поздно, до полуночи. Расход на керосин в продолже-нии лишних 3—4 часов для крестьянского бюджета очень значителен. К тому же мужики, хотя в трудную минуту не прочь залезть в “бабью копейку”, не позволяют обычно рукодельничающей бабе “зря жечь керосин”. Вот бабы и девушки додумались работать компанией за “одним огнем”. Снимают у какой - нибудь бобылки избу, устраивают складчину на керосин и соби раются по вечерам всяк со своей работой. Сюда приходят и пожилые женщины, опытные рукодельницы, и совсем еще девочки, которые на посиделках учатся у более умелых»2.
«Сказки, рассказы бывалых людей имеют почетное место на посиделках. Длинный рабочий вечер проходит неза метно. Эти рассказы и песни, имеющие для женщины, работающей на посидел ках, подсобное к работе значение, привле кают нередко на посиделки и мужиков»3.
В том случае, если посиделки устраи вала деревенская молодежь, ведущим мотивом их было уже не совместное руко делие, а, в соответствии с естественными возрастными предпочтениями, прият ное времяпрепровождение. Все тот же Ч. справедливо утверждал: «...девушки, собирающиеся на посиделки, обычно после работы устраивают, так сказать, вто рое отделение, уже чисто увеселительное, приходят парни с гармонией, начина ются уже другие песни, пляски, игры. Для холостой молодежи деревни посиделки являются узаконенным местом свиданий. Здесь парни приглядывают себе невест, а девушки — женихов. Даже самые строгие родители не запрещают своим дочерям посещать посиделки»4.
Впрочем, участниками таких веселых посиделок, автоматически превращав шихся в веселые вечеринки, были не тол ько холостые парни и незамужние девушки той или иной деревни, но также замужняя и женатая сельская молодежь. В.В. Криводед вспоминал, что в 1920-х гг. в селе Львовском (ныне Северский район Краснодарского края) его родители и их ровесники, еще совсем молодые люди, собирались в одном из сельских домов и «веселились до упаду.. И когда они соби-рались на вечеринку, нам наказывали — сидите дома. Но как только они уйдут — мы за ними. Соберемся человек 6—7 ребят и тихонько заглядываем в окна. Мы восторгались красотой, молодостью своих родителей, озорной музыкой баяниста. Как только начинали расходиться, мы бегом домой и на печь»5.
Не менее, а то и более посиделок были распространены в деревне гулянья, для устройства которых, как явствует уже из названия, и вовсе ничего не нужно было делать. Молодежь просто собиралась на улице, где и проводила время в песнях, танцах, играх: «деревенское веселье — гармонь, пляска, песни»1. Как отмечают Т.А. Невская и С.А. Чекменев, в дореволю-ционный период (а также и в эпоху нэпа, органически связанную с досоветским прошлым) в селах Ставрополья «с 15—17 лет девушки и парни выходили гулять “на улицу”, где девушки пели песни, играли в различные игры. К девушкам подходили парни, принимали участие в их играх и пении. Молодые люди обычно стано-вились в кружок и так “стояли гуртом”, разговаривали, шутили, иногда рассказы вали сказки или танцевали под гармонь»2. Таковы же были гулянья на Ставрополье, на Дону и Кубани и в 1920-х гг. По вос-поминаниям В.В. Криводеда, молодежь хуторов села Львовского проводила досуг на улице, причем у каждого «кутка» (края, угла) хутора были свои песни, гармони сты, баянисты3.
Традиционные формы крестьянского досуга, как и церковные праздники, спо собствовали укреплению социальных связей на селе, сохранению культуры и обычаев. Были у них и свои отрицатель -ные стороны. Многие крестьяне старшего возраста жаловались на постоянный шум за окнами по вечерам, когда молодежь слонялась по улицам с песнями под гар мошку: «...у нас музыку ребята такую разводят, ходючи по деревне каждый вечер с гармонией, что зажимай уши и беги»4. Более же всего вызывали озабоченность пьянство и хулиганство, являвшиеся в 1920 х гг. чуть ли не постоянными спут никами простонародных развлечений. Сельские корреспонденты с печалью и гневом писали в редакции советских пери -одических изданий, что «после тяжелого труда крестьянская молодежь ищет весе -лого отдыха. Но этот отдых нередко носит нездоровый уклон. Под трели “тальянки” и выкрики песен часто происходит хули ганство, драки»5, «как вечер — двурядка, хулиганские выходки, знай наших!»6.
Не самые лестные отзывы у многих современников вызывало то обстоятель ство, что нередко среди парней возникали драки, если к девушкам с их улицы при ходили парни с других улиц (хотя многие крестьяне вполне спокойно и даже одо брительно относились к таким побоищам, считая их проявлением удали молодецкой и средством физической и моральной закалки). Драматическое, осуждающее описание драки между парнями из разных деревень (правда, расположенных не в южных, а в одном из центральных регио нов Советской России) представлено в рассказе Дмитрия Ишимского, опублико-ванном в газете «Молодой ленинец» в фев рале 1927 г.: «...в беспорядке замелькали в воздухе колья. Хрясь. Кровь брызгами и змейками спускалась на землю, обращая свежий снег в кровавое месиво. Струилась кровь, трещали скулы и головы под дикие крики и мат»7.
Итак, традиционный крестьянский досуг на Юге России не отличался особым разнообразием в годы нэпа. Однако в при -вычных формах времяпрепровождения крестьяне находили возможность отдо хнуть от трудов праведных, хотя нередко это сопровождалась вспомогательными житейскими заботами. Коллективный характер досуга позволял сделать его инте -ресным и полезным, хотя не обходилось и без негативных проявлений. Тем не менее традиционный досуг оставался неотъем -лемой и важной частью крестьянской повседневности.