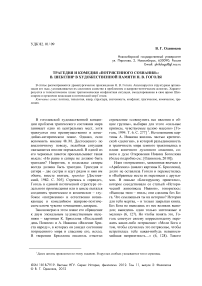Трагедия и комедия «потрясенного сознания»: В. Шекспир в художественной памяти Н. В. Гоголя
Автор: Одиноков Виктор Георгиевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются драматургические произведения Н. В. Гоголя. Анализируется структурная организация его пьес, устанавливается их системное единство в проблемном и жанрово-поэтическом аспектах. Характеризуется в типологическом плане трагикомическая конфликтная ситуация, смоделированная в свое время Шекспиром и органично вошедшая в поэтический мир Гоголя.
Поэтика, типология, жанр, структура, системность, конфликт, трагическое, комическое, традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/14737735
IDR: 14737735 | УДК: 82.
Текст научной статьи Трагедия и комедия «потрясенного сознания»: В. Шекспир в художественной памяти Н. В. Гоголя
В гоголевской художественной концепции проблема трагического состояния мира занимает одно из центральных мест, хотя трактуется она преимущественно в комедийно-сатирическом плане. Однако, если вспомнить мнение Ф. М. Достоевского по аналогичному поводу, подобная ситуация оказывается вполне нормальной. В одной из его черновых заметок проскальзывает такая мысль: «Но разве в сатире не должно быть трагедии? Напротив, в подкладке сатиры всегда должна быть трагедия. Трагедия и сатира – две сестры и идут рядом и имя им обеим, вместе взятым, правда » [Достоевский, 1982. С. 305]. Стремясь к «правде», Гоголь в единой поэтической структуре отдельного произведения или в цикле пытался соединить трагическое и комическое – глубокое «потрясение» и естественно возникающее в комедийном жанрово-поэтическом ключе чувство «очищения», катарсис.
Закономерно в этом плане его обращение к двум эпохальным художественным явлениям – картинам К. Брюллова «Последний день Помпеи» и А. Иванова «Явление Христа народу», в которых он увидел состояние потрясенного мира и спасение его, исход. В творении Брюллова писатель отметил стремление «совокупить все явления в общие группы», выбирая для этого «сильные кризисы, чувствуемые целою массою» [Гоголь, 1994. Т. 6. С. 277] 1. Истолкование картины А. Иванова явилось частью критической «дилогии», в которой разъединенность и трагичность мира земного трактовались в плане конечного духовного спасения, совсем в духе Откровения Иоанна Богослова (более подробно см.: [Одиноков, 2010]).
Идея «потрясения», заявленная вначале в «Арабесках» (анализ картины К. Брюллова), долго не оставляла Гоголя и переместилась в «Выбранные места из переписки с друзьями». В письме «Близорукому приятелю», которое соседствовало со статьей «Исторический живописец Иванов», говорилось: «Выводы твои – гниль; они сделаны без Бога. Что ссылаешься ты на историю? История для тебя мертва, – и только закрытая книга. Без Бога не выведешь из нее великих выводов; выведешь одни только ничтожные и мелкие» (6, 127). Но чтобы понять это, Гоголь советует своему корреспонденту пережить какое-либо потрясение: «Моли Бога о том, чтобы случилось это потрясенье, чтобы встретилась тебе какая-нибудь невыноси-мейшая неприятность…» (6, 128). Такого рода размышления писателя реализовались уже ранее в его художественном творчестве. Об этом свидетельствует комедия «Ревизор». Комедийная интерпретация «потрясенного сознания» не разрушала драматическую сущность явления, что и было подчеркнуто в свое время Ф. М. Достоевским. Со всей очевидностью Гоголь утвердил возможность и даже необходимость существования в окружавшем его художественном «пространстве» чисто трагедийной формы такого рода «потрясения». Никакой мистики в этой мысли не было. Гоголь твердо знал, кто в русской драматургии такой подвиг совершил. Это был А. С. Пушкин – автор трагедии «Борис Годунов». Как известно, Гоголь написал специальную статью о трагедии, в которой она названа «поэмой». Создавая «Ревизора», Гоголь «восходил» к Пушкину не только через ассоциативную художественную память, но и через своеобразную текстовую расшифровку сущности того конфликта, который возник в финале трагедии.
Закономерно, что «Ревизор» вызывал у читателей и исследователей различные ассоциативные связи, которые направляли аналитическую мысль в сторону «Бориса Годунова». Показательны в этом отношении заметки режиссера С. Эйзенштейна, который утверждал, основываясь на конкретном материале, родственные связи Гоголя и Пушкина. Намечая план работы в этом направлении, режиссер в лаконично-экспрессивной форме выразил свои мысли следующим образом: «Такого-то числа 1946 года я проснулся в твердой убежденности, что “Ревизор” – пародия на “Бориса Годунова”. Общая идея о нечистой совести. О Самозванце. Хлестаков и Лжедимитрий – Борис и Городничий» [Гоголь в русской критике, 2008. С. 468]. Категоричная форма выражения в данном случае не должна нас смущать, поскольку Эйзенштейн, по сути, элементарно противопоставлял комическое трагическому, а трагическое – комическому, что в эстетическом смысле совершенно корректно. Несколько ранее он заметил: «Если пародией трагедии будет комедия, то пародией комедии будет трагедия» [Там же. С. 464]. Пушкин наглядно продемонстрировал этот трансформационный процесс, сотворив из первоначального замысла «Комедии о настоящей беде Московскому Государству…» подлинную трагедию –
«Бориса Годунова» (см.: [Фомичев, 2007. С. 62–88]). Обратим внимание на то, что Гоголь последнюю сцену трагедии Пушкина транспонировал в «Ревизоре» в комический план, в «немую сцену», создав «пародию», но она в обратном порядке соотносилась с «пародией комедии», обретая при этом серьезный драматический оттенок, на что специально обращал внимание сам Гоголь в своих комментариях к «Ревизору».
В «Развязке Ревизора» выступает некий «комический актер», который произносит следующие слова: «Что ни говори, но страшен тот ревизор, который ждет нас у дверей гроба. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя». Эта совесть и появляется в финале как карающая «высшая сила». Тот же персонаж продолжает: «Дружно докажем всему свету, что в Русской земле все, что ни есть, от мала до велика, стремится служить Тому же, Кому все должно служить что ни есть на всей земле, несется туда же… кверху, к верховной вечной красоте!» (3–4, 463, 465). Гоголь создал в заключительном эпизоде «пародию комедии» и тем самым логично соединил ее с финалом пушкинского «Бориса Годунова», который помечен ремаркой «Народ безмолвствует».
Безмолвие народа – это не просто пауза, это «действие», обращение к Тому, «Кому все должно служить» – это безмолвная молитва. Гоголь глубоко осмысливал специфический оттенок такого молчания и специально писал об этом в «Размышлениях о Божественной Литургии». Он отметил, что безмолвная молитва является важной составляющей частью Литургии Верных (более подробно см.: [Одиноков, 2007]). Таким образом, создав в «Ревизоре» «пародию трагедии», Гоголь одновременно поднимался сам и поднимал читателя и зрителя до уровня осмысления трагического состояния мира.
Следует обратить особое внимание на то, что Пушкин как автор трагедии о царе Борисе видел перед собой знаковую фигуру «впереди идущего» драматурга, на которого он во многом равнялся. Этим драматургом был В. Шекспир. Широко известно пояснение Пушкина, относящееся к процессу создания трагедии: «По примеру Шекспира я ограничился развернутым изображением эпохи и исторических лиц, не стремясь к сценическим эффектам и романтическому пафосу…». Далее он замечает: «Изучение Шекспира и Карамзина и старых наших летописей дало мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох новейшей истории. Не смущаемый никаким иным влиянием, Шекспиру я подражал в его вольном и широком изображении характеров, в небрежном и простом составлении планов» [Пушкин, 1996. С. 481, 483].
Гоголь со своей «пародией трагедии» и Пушкин с «пародией комедии» оказались объективно под «поэтическим куполом», воздвигнутым драматургией Шекспира. Правда, нахождение в этом пространстве Гоголя было обозначено не очень ясно, однако поэтическое родство «Ревизора» с «Борисом Годуновым» так или иначе наталкивает на мысль о возможных связях нашего сатирика с Шекспиром, которые обнаруживаются в «лабиринте поэтических сцеплений», системно представленных в творчестве Гоголя-драматурга.
Но прежде чем говорить о художественной памяти Гоголя, которая проясняет связи гоголевской драматургии с шекспировской поэтикой, имеет смысл послушать, как он субъективно оценивал значение Шекспира. Гоголь внимательно читал и перечитывал произведения Шекспира. В письме к В. А. Жуковскому от 12 ноября 1836 г. он информирует своего корреспондента: «…при-нялся перечитывать я Мольера, Шекспира и Вальтер Скотта» (9, 92). В письме к М. П. Балабиной (30 мая 1839 г.) Гоголь упоминает Шекспира, который, по его мнению, отражает «в себе, как в верном зеркале, весь огромный мир и все, что составляет человека» (9,127). В этом же письме Гоголь обращает внимание на образ Гамлета, воплощение которого на сцене требует, по его выражению, «особых добродетелей», которые можно увидеть только «по долгом соображении и долгом изучении характеров, созданных Шекспиром» (9, 128). С пиететом Гоголь говорит о Шекспире и в письме к М. П. Погодину от 17 октября 1840 г. В обращении к А. С. Данилевскому Гоголь просит купить ему «первый том двухтомника Шекспира» (9, 642). Заметим, что он углубляется в тексты Шекспира. В одном из писем к М. С. Щепкину он сообщает, что «пьесу Шекспира, которую переводили его сестры, еще не успел поправить» (курсив наш. – В. О.) (9, 653).
Гоголя привлекал универсализм Шекспира-художника – «огромный мир» и «всё, что составляет человека». В этом плане он выделяет и образ Гамлета. Этот интерес к Шекспиру напрямую связан с драматургическими опытами Гоголя, которые образуют в своей совокупности определенную систему. Шекспировское влияние опосредованно проявилось через Пушкина и отразилось в «пародии трагедии», по выражению С. Эйзенштейна. Но это влияние очевидно и в тех произведениях Гоголя, которые формируют его драматургическую систему в целом. Здесь важно обратить внимание на соотнесенность различных сопутствующих драматургических опытов Гоголя с центральной пьесой, с «Ревизором» В данном случае возникает вопрос о роли и функции отдельно взятых пьес Гоголя по отношению к его главному драматургическому творению. Для исследователей объективно трудной оказалась задача рассмотрения логически последовательного порядка написания «маленьких комедий» и сведения их к единому замыслу. И. Л. Вишневская, анализируя комедии Гоголя, пришла вследствие отмеченных обстоятельств к следующему выводу: «Вероятно, все же Гоголь считал эти отрывки самостоятельными сценами, как и надо к ним относиться и перестать искать в них “родимые пятна” некогда единой комедии» [1976. С. 63].
Совершенно очевидно, что анализировать гоголевские пьесы следует, главным образом, не в хронологическом порядке, а в системном, и не по отношению к какому-то гипотетическому единому замыслу, а к «Ревизору». Можно констатировать, что основная масса драматургических текстов Гоголя – это своеобразный комментарий к «Ревизору». Объяснение-подсказка в этом плане предложена самим писателем. Он открыто и даже демонстративно добавлял к комедии «Ревизор» соответствующие пьесы-комментарии, каковыми, например, являются «Театральный разъезд» и «Развязка ревизора». Дополняют этот список комедии «Игроки» и «Женитьба». И вот в них-то совершенно очевидно обнаруживается «шекспировский элемент». К «Ревизору» они, вроде бы, не имеют никакого отношения. Однако, если внимательно присмотреться, можно обнаружить в них детальную разра- ботку мотива «игры» в широком смысле этого слова. Поясняющее значение этих двух драматургических экспериментов заключается в том, что «игра» как структурно организующий элемент составляет драматургическую основу и комедии «Ревизор». Ролевые функции персонажей там обнаруживаются предельно четко. Ведь даже то, что заглавие пьесы написано Гоголем без кавычек, свидетельствует о намерении автора сделать из фитюльки Хлестакова для окружающего его общества «значительное лицо», которое он актерски достоверно воплощает, становясь невольным исполнителем навязанной ему роли. Все остальные персонажи также выполняют ролевые функции по отношению к «чину». Хлестаков выступает в пьесе как настоящий ревизор «по положению», но ревизор и в жизни - это, по существу, почти театральная роль.
Теперь следует сказать, что если Гоголь в «Ревизоре» восходит к Шекспиру по многоступенчатой лестнице при поддержке Пушкина, то в «Игроках» он обращен к Шекспиру непосредственно. Читая Шекспира и поправляя какой-то перевод, о чем говорилось ранее, Гоголь вникал не только в проблематику, но и в технику письма великого драматурга. В «Игроках» подчеркнуты театральность действия в целом и ролевые функции всех персонажей. А ведь Шекспир метафорически воплощал мир как грандиозное театральное действо: «весь мир - театр, все люди в нем - актеры». Громоздкий спектакль, разыгранный персонажами «Ревизора», в «Игроках» находит своеобразное модифицированное продолжение. И что характерно, импульс такого рода «продолжению» задал Шекспир и прежде всего упоминаемый Гоголем Гамлет.
Гамлет живет в мире, где жизнь - жесткая игра. Добиваясь цели, он свою игру встраивает в жизнь, организуя театральное представление, разоблачающее преступное деяние Короля, убившего его отца и занявшего престол. Преступной игре своего дяди он противопоставляет собственный сценарий, который, по замыслу Гамлета, должен быть реализован в импровизированном спектакле труппы бродячих актеров. Гамлет в этой ситуации - и реальный соучастник драматических событий, и постановщик жизненного и театрализованного действа. На сцене появляются «Актер-король», «Актер-королева». Они должны играть в пьесе, которая называется «Мышеловка». В целом гамлетовский жизненный спектакль - это взаимодействие ролевых фигур обобщенного плана. И сам Гамлет с точки зрения драматургической функции - ролевая фигура в контексте «жизни-игры», каковой представляется вся государственная и бытовая атмосфера «потрясенного» Датского королевства, в котором на равных правах с живыми выступает и играет немаловажную роль «Призрак» отца Гамлета. В этом плане характерна ключевая фраза Гамлета: «...Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся лбом!» (пер. М. Лозинского). Эти слова могут служить эпиграфом к названным гоголевским пьесам.
Что же разрабатывает Гоголь в «Игроках» и «Женихах» («Женитьбе»)? А разрабатывает он и детализирует ситуацию, когда лбами сталкиваются две хитрости. Впрочем, «Ревизор» - тоже об этом. Там две хитрости работают подобно механизму гамлетовской «мышеловки», в которую фактически попадают обе интригующие стороны. Здесь важно отметить даже не типологически обобщенное содержательное наполнение «игры», а мастерство ее структурно-драматургического воплощения. Зритель оказывается захваченным искусными и неожиданными поворотами придуманной «игровой» ситуации.
Но нужно иметь в виду, что уже в саму структуру «чистой игры» Гоголь заложил взрывоопасный критический заряд, который обнаруживается из соотнесенности названных пьес с «Ревизором». Становится очевидным, что поэтическая «фантасмагория» в его произведениях моделирует сущность событий и образов, обнаруженных в реальном мире и имеющих актуальный социально-общественный смысл. Используя формулу Н. С. Лескова, можно сказать, что Гоголь изображает «натуральный факт в мистическом освещении» (рассказ «Александрит»).
Итак, пьеса «Игроки» - это обобщенный целостный образ коварной «мышеловки», в которую пытаются затянуть друг друга две группы карточных мошенников, плетущих сеть искусных интриг. Гоголь создает своеобразную игровую партитуру, в которую включается и зритель. Пьеса начинается с интриги: в условный город приезжает заядлый карточный игрок и шулер, некто Иха-рев, который ищет партнеров, чтобы их жульнически обыграть. Таким партнером оказывается человек по фамилии Утешительный и его небольшая компания. Но здесь возникает осложнение: Утешительный – такой же карточный шулер, как и Ихарев. Впрочем, они быстро находят общий язык и ищут богатый объект в форме «денежного мешка», который следует основательно растрясти. Зрителя уже захватила интрига с разоблачением Ихарева, и он, естественно, пристально следит за дальнейшим ходом событий. Наконец, «объект» находится. И зритель уже во власти этой новой интриги, осложненной целым рядом общественных и психологических факторов. В системе достаточно обостренных взаимоотношений персонажей возникают мотивы очень серьезного характера, которые зритель обязан усвоить и осмыслить. Один из вновь появившихся персонажей произносит мудрые слова, которые могут служить «учебником жизни»: «Эх, господа, послушайте старика! Нет для человека лучшего назначения, как семейная жизнь в домашнем кругу. Все это, что вас окружает, – ведь это все волнение, ей-Богу-с волнение, а прямого-то блага вы не вкусили еще» (3–4, 363).
Такого рода сентенции и высказывания наполняют пьесу, делают ее философски и психологически насыщенной. Но в этом проявляется «лукавство» Гоголя. За всем подобным словесным антуражем прячется поэтическая интрига самого автора, Зритель следит за первоначально сложившейся ситуацией и считает, что она продолжается: Ихарев и Утешительный вроде бы хотят обыграть некоего Глова, у которого в руках свободная сумма в 200 тысяч рублей. Но зрителю пока не ведомо, что вся эта история с Гловом, его сыном, чиновником Замух-рышкиным и прочим есть не что иное, как разыгранный соратниками Утешительного спектакль, чтобы «надуть», и теперь уж окончательно, своего «коллегу» Ихарева. Обман раскроется в финале. Ихарев об этом узнает, но Утешительный с компанией уже исчез. Следует сценическая пауза… Действие закончено, и Гоголь ставит «точку».
Игра превращается для героев в жизнь, а жизнь – в игру. Это уже объективный аспект интерпретации происходящего на сцене действа. И здесь имеет смысл вновь вспомнить не только Шекспира, но и Пушкина, автора «Пиковой дамы». Ведь жизнь Германа и есть игра, которая привела его к траги- ческому состоянию безумия. Впрочем, Гоголь не идет дальше и не развивает тему. Единственно важное для автора – это детали, которые углубляют концепцию «Ревизора» с точки зрения комедийной игры. Однако Гоголь в данном случае не морализирует и не затрагивает здесь никаких сакральных вопросов, как в комедии «Ревизор». Но характерно, что он строит художественное пространство в плане обратной перспективы. Зритель вначале оказывается в исходном положении перед реальной театральной рампой, затем она исчезает и пространство расширяется, поскольку он как бы переходит на сцену и смотрит спектакль Утешительного, а когда рушится и эта условная рампа, он вместе с обманутым персонажем оказывается в условном общем жизненном пространстве, из которого уже никто не намечает выхода и из которого не надо уходить, а надо принимать как данность. Это, предположительно, обычное и вместе с тем умозрительно предполагаемое бесконечное сакральное пространство, где господствует «Тот, Кто выше людей». Такое виртуальное движение и структурирует обратную перспективу, свойственную иконописному искусству, что, кстати, использовал и Пушкин в известном письме Татьяны к Онегину (см.: [Одиноков, 2003]). Гоголь, делая рампу подвижной, соединяя сценических персонажей и зрительскую аудиторию в едином драматургическом комплексе, является далеким предшественником театра эпохи «модерна». В этом плане он передал эстафету и более близкому по времени художнику – А. П. Чехову, создававшему «новый театр».
В «Женитьбе» Гоголь продолжает художественный эксперимент с шекспировской «мышеловкой», которую расставляют друг для друга уже не карточные игроки, а «свадебные персонажи». Если в «Игроках» зрителя должны увлечь интрига и все этапы ее раскрутки, в «Женитьбе», как и в «Ревизоре», автор высвечивает портреты отдельных персонажей. Динамика событий заменяется фронтальным показом участников действа, которое определяется термином «женитьба». Сейчас для Гоголя как комментатора «Ревизора» важен именно такой аспект. Теперь он не уничтожает рампу, а подчеркивает ее функцию, отделяя зрителей от участников сценического действия. Автор панорамирует жизнь, ее фазы и событийные повороты на пути к задуманной развязке.
Женихи «представляются» зрителю объективно через монологи, обращенные к невесте, и через процедуру презентации их свахой. Для Гоголя такое построение образов и смысла их поведения оказывается особенно важным, поскольку в «Ревизоре» он сам прокомментировал во вступительной части образы-характеры персонажей, а в объяснении смысла и сущности «немой сцены» использовал пространную ремарку-описание того, что и как нужно делать актерам и, очевидно, режиссеру, монтируя заключительный и очень важный в смысловом значении финальный эпизод.
Решаемые в «Ревизоре» проблемы, ранее уже возникавшие или только что попутно формирующиеся, подсказывали Гоголю, в каком плане следует выстраивать систему текстов, носящих поясняющий характер. В «Игроках» автор, по сути, расшифровал внутренний смысл третьего акта «Ревизора», сцены «вранья», которая провоцировала «игровые» моменты в поведении всех ее участников, поскольку «лбами» столкнулись две хитрости. Панорамный показ ролевых функций персонажей, проведенный в четвертом действии «Ревизора» (сцена взяток), в модифицированной форме, но с сохранением сущности происходящего, запечатлен в «Женитьбе», когда женихи выстраиваются в один ряд, предлагая себя невесте и вместе с тем «выбирая» ее с учетом прилагаемых материальных ценностей. Невеста также «выбирает», но уже в прямом смысле, и оценивает выбираемые объекты по своим меркам, создавая синтетический образ «идеального» для нее жениха. Игра здесь, конечно, присутствует, но она не ведет, как в «Игроках», к «душевному потрясению». Совершенно очевидно, что сюжетное построение этой пьесы не могло логически привести к драматическому финалу. Гоголь в данном случае придумал пародийное, псевдодраматическое окончание, когда «главный» жених, Подколесин, выпрыгивает в окно. Идиотский, с точки зрения здравого смысла, поступок главного героя в драматургическом плане органично завершает откровенный «базар» – куплю-продажу невесты, который перерастает в «ярмарку тщеславия». Не мудрствуя лукаво, правомерно сказать, что Гоголь создал водевиль с соответствующим «легковесным» финалом.
«Женитьбу» можно играть как водевиль Она может служить добротной основой и такого современного жанра, как «мюзикл», тяготеющего к оперетте. Не случайно наш замечательный актер Андрей Миронов даже Хлестакову придавал черты водевильноопереточного героя, когда тот выделывал пьяные кренделя на неубранном закусочном столе и падал на руки окружающих чиновников.
Но развязка «Женитьбы», по замыслу автора, выступает не в органичной для комедии водевильной форме. Гоголь эту форму недолюбливал и писал о ней следующее: «Но какие были эти пиесы? Эти пиесы были водевили. Русские водевили! Это немножко смешно, во-первых, потому, что это легкая бесцветная игрушка могла родиться у французской нации, не имеющей в характере своем глубокой физиогномии, если сказать сильно-национальности» (7, 472). Разумеется, гоголевские национальные характеры и тема «русскости» не вмещались в рамки водевиля. Отмечалось, например, что гоголевский Подколесин – это прообраз гончаровского Обломова, «сатирическое олицетворение общественного индифферентизма» (см.: [Вишневская, 1976. С. 187].
Как всегда, Гоголь в самой ситуации разглядел и обнаружил некий важный подтекст. В национальном «лапотном» мире он прозревал высший, религиозный смысл. Поиски такого смысла в «уродливой» русской жизни были типичны для Гоголя. Он об этом думал и говорил. В письме к А. О. Смирновой от 6 июня 1846 г. Гоголь обращает внимание на то, что в уроде можно почувствовать «идеал того же, чего карикатурой стал урод» [Гоголь, 1937–1952. Т. 12. С. 76]. Творческая мысль Гоголя, задумавшего пьесу «Женихи», а написавшего в итоге «Женитьбу» – можно предположить – стимулировалась текстом Библии, притчей «О десяти девах», ожидающих жениха. Переделка заглавия пьесы в плане этого «подпольного» замысла состояла, очевидно, в том, что женихи – фигуры чисто земного плана, а женитьба увлекает мысль в сакральную сферу, ибо браки «совершаются на небесах». Это утверждение соотносится с текстом Евангелия от Матфея (25: 6, 10). Там сказано: «Но в полночь раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. <…> Пришел жених, и готовые вышли с ним на брачный пир…» (Мтф., 25: 6).
В пьесе Гоголя уродливое множество женихов перекодируется и свертывается в ассоциативно организованном драматургическом подтексте в единый идеальный образ, который они пародируют и который в религиозном плане трактуется как образ Христа. А «десять дев» также свертываются драматургом в единый, но уже не идеальный, а сугубо земной образ невесты Агафьи Тихоновны, в которой смешаны разные качества и которая создает в своем воображение грядущего, но уже опять-таки земного жениха. Земное и небесное в такой концепции соприкасаются, и через «кору земно-сти» проступает контурно «небесное», которое объясняет духовно-нравственный смысл происходящего жизненно-прагматического действия. Итоговую мораль Гоголь в этом ассоциативном плане не предусмотрел, но она проступает, если «Женитьбу» соотнести с «Ревизором», в котором, как утверждал сам писатель, за грехи земные следует наказание свыше, благодаря появлению контура Лика в финальной сцене, о чем уже было сказано (более подробно см.: [Одиноков, 2003]). В качестве примечания можно заметить, что в «Ревизоре» Гоголь подчеркнул не только административную, но и жениховскую роль Хлестакова в отношении Марьи Антоновны, дочери городничего. Прощаясь с ней, он произносит характерную фразу: «Прощайте, моя душенька, Марья Антоновна!».
Отмеченными «дополнительными» текстами Гоголь гипотетически расширяет игровое поле «Ревизора». Этот процесс расширения, представленный комедиями «Игроки» и «Женитьба», имеет продолжение, условно говоря, на втором уровне, который обозначен экспериментальными фрагментами, органично входящими в общую драматургическую систему Гоголя. К такого рода фрагментам относится одноактная пьеска «Утро делового человека». Характерно, что диалог «делового человека» с его коллегой и единомышленником начинается с темы карточной игры, а продолжается в той же тональности игрой мнений и позиций, раскрывающих двойственный характер представляемых персонажей, ведущих двойную игру.
Неискренность и подловатая сущность участников диалога заключается в том, что они «играют» друзей, не будучи таковыми. Каждый готов продать друг друга, и каждый обнаруживает поистине «чичиковскую» изворотливость и лицемерие. Так как текст пьесы предельно сжатый, имеет смысл привести лишь несколько ключевых реплик персонажей, на которые должны ориентироваться исполнители и режиссер. Деловой человек Иван Петрович доверительно сообщает своему «другу» Александру Ивановичу: «Мне бы теперь одного только хотелось - если б получить хоть орденок на шею». Такое можно поведать только очень близкому человеку. Но это еще не все. Дальше следует интимная просьба: «Я вас буду просить, великодушнейший Александр Иванович, этак при случае, натурально мимоходом, намекнуть его высокопревосходительству: что у Барсукова-де в канцелярии такой порядок, какой вы редко где встречали, или что-нибудь подобное». И Александр Иванович с готовностью отвечает: «С большим удовольствием, если представится случай...». А несколько ранее он «душевно» сочувствует: «Так вам чины, можно сказать, потом и кровью достались».
Но и это еще не все. В заключительном эпизоде (в лакейской) он же произносит следующие слова: «Не терплю я людей такого рода. Ничего не делает, жиреет только, а прикидывается, что он такой, сякой, и то наделал, и то поправил. Вишь, чего захотел! Ордена! И ведь получит, мошенник! Получит! Этакие люди всегда успевают». И тут же, следом, возникает показательный вопрос: «А я?». Этот («Я»), видимо, обделен, но, как и тот, «мошенник», он тоже хотел бы кое-что получить. Очень хотел...
Режиссерско-исполнительская задача в данном случае осложняется тем, что исчезает общественно-психологическая доминанта образов. Возникает странная ситуация: вроде бы вначале мы видим двух честных, деликатных представителей человеческого рода, но один из них реально, несомненно, подлец. Но кто? Кого как играть? Можно, конечно, подозревать, что оба подлецы, но образы-характеры этих персонажей «текучи» и напоминают игрушечную вертушку, которая оборачивается к играющему то одной, то другой стороной.
Гоголь в данном случае не только проясняет «диалектику характеров», нашедшую отражение в «Ревизоре», но программирует такого рода художественную интерпретацию образов, которая воплотится в поэме «Мертвые души». Достаточно вспомнить
«беседу» Чичикова с Собакевичем по поводу разных лиц, когда позитивные характеристики, исходящие из уст Чичикова, перечеркиваются лаконичными шельмующими определениями Собакевича.
Таким образом, игра в «Утре делового человека» – лицемерное действо в царстве «мертвых душ». Проповедуемая позитивная мораль в этом сочинении Гоголя заключается в предположении, что мертвых душ в принципе не бывает, ибо Христос (знаковое явление в тексте «Женитьбы») «смертию смерть поправ». Выход из «мрака», из «тьмы язычества» Гоголь уже не с помощью художественных образов, а теоретически обосновал в «Размышлениях о Божественной Литургии».
Такого же рода двойной план трактовки образов и действительности в целом обнаруживается в пьесе «Тяжба», которая, как и «Утро делового человека», в системном плане входит во второй уровень своеобразных художественных комментариев к комедии «Ревизор». В «Тяжбе» представлен «микродиалог» двух «деловых людей», который в системном плане вступает в «макродиалог» с аналогичной художественной структурой «Утра делового человека». Создавая тексты пьес, Гоголь их сближает даже текстуально. «Утро…» открывается эмоциональной репликой первого персонажа, обращенной к лакею: «Что ты, оглох?». После этого «входит слуга». В «Тяжбе» начальная реплика в монологе первого персонажа звучит столь же эмоционально, во всяком случае предполагает эмоциональный окрас: «Что это у меня?». Затем, через некоторое время входит лакей: «Чего изволите-с?». Как и в «Утре…», дальше появляется второй персонаж по фамилии Бурдюков, у которого есть дело к первому – Пролетову. Вместе они затевают «дело» против общего врага, брата Бурдюкова, который лишил его законной части наследства, оставленной «родной теткой». Теперь он прибыл аж из Тамбова, чтобы пожаловаться сенатскому обер-секретарю Пролетову на «бестию» брата. Пролетов рад напакостить этой «бестии», поскольку он ему тайно завидует, завидует его карьерным успехам, но обличает он его как «взяточника» и «вора». В этом благородном порыве у него теперь есть союзник, брат этого успешного Бурдю-кова. Пьеса заканчивается репликой Пролетова, адресованной его «сопернику»:
«…Во всю жизнь не отдохнут у тебя бока».
После этого возникает традиционный гоголевский вопрос: кто есть кто? Если эти двое, представшие перед зрителем, «благородные», то «братец» – подлец. А если «братец» не подлец, то подлецы эти двое. А может быть, все они из одного материала сделаны и на один манер. Тогда мы уже имеем схематичную модель не только «Ревизора», но и первого тома поэмы «Мертвые души».
На этом можно было бы и закончить обзор драматургических «комментариев» «Ревизора». Однако у Гоголя есть один фрагмент, который достоин самого пристального внимания. Это отрывок «Лакейская». Гоголь придумал абсурдную ситуацию: подготовку «лакейского бала». Игровой момент в этой сценической «интродукции» к гипотетическому большому сюжету достигает своего апогея. Лакейское «подполье» теперь откровенно выходит на «благородный уровень». «Подлые» у Гоголя заиграли роли «благородных». Драматург такую ситуацию, как мы знаем, представил в «Ревизоре»: фитюлька Хлестаков «залетел» аж в «генералиссимусы» в диалоге Бобчинского и Добчинского. Такого рода «перелицовка» подчеркнуто преподана автором в «Лакейской». Гоголь изобразил «маскарадную игру», участником которой является «благородный» протагонист – «Дворецкий». Он и расставляет всех по местам в соответствии с реальными классовыми категориями и градациями лакейской табели о рангах:
«Дворецкий (оставшись один): В том-то и есть поведенье, что всякий человек должен знать свой долг. Коли слуга, так слуга, дворянин, так дворянин, архиерей, так архиерей. А то бы, пожалуй, всякий зачал… я бы сейчас сказал: “Нет, я не дворецкий, а губернатор или там какой-нибудь от инфантерии”. Да ведь за то мне всякий бы сказал: “Нет, врешь, ты дворецкий, а не генерал”, – вот что! “Твоя обязанность смотреть за домом, за поведением слуг”, – вот что!» (3–4, 398). Однако «лакейские» амбиции такую стратификацию полностью разрушают. Все хотят быть не теми, кто они есть на самом деле. Подлые метят в благородные. И уже изменилось лицо благородных, рекрутируемых из подлых.
А ведь изображенный в драматических произведениях Гоголя социум представляет собой аналогию лакейского бала-маскарада, игру личин-масок. И «Ревизор» в этом плане являет в системе выстроенной Гоголем социально-общественной перспективы «точку схода». Писатель не отделяет в своих персонажах лакейство от «благородства», а «благородство» от лакейства. В этом видится пророческое предостережение по поводу того, что «кухарка» может управлять государством. Писатель-гуманист предполагал в системе социума «выделку в человека», чтобы все, и демократические «низы» также, стали на уровень, который позже Ф. М. Достоевский попытался показать на примере образа «положительно прекрасного человека».
Это была территория, на которую Гоголь как писатель-реалист практически не заходил, но теоретически всегда имел ее в виду. Гоголь, как и Достоевский, предполагал, что переделка социума должна начинаться с переделки человека, а не с акции изгнания «козлищ» ради построения светлого будущего. В этом плане Гоголь корректировал радикальную русскую идею революционного «переворота». «Лакейский бал» со всеми его идеологическими и моральными оттенками был гоголевским предупреждением. Оно, попутно следует заметить, прошло мимо «революционного демократа» Чернышевского, который в образной тональности четвертого сна героини романа «Что делать?» воспроизвел невольно атмосферу именно «лакейского бала», исходя при этом из гуманной и социально в чем-то оправданной мысли сделать демократическую массу прямо сейчас социальным и культурным гегемоном.
В романе Чернышевский изобразил картину постоянного народного праздника: «В зале около тысячи человек народа, но в ней могло бы свободно быть втрое больше». И далее: «Так что же это? разве не бал?» И тут же дано уточнение: «…по-нынешнему, это был бы придворный бал…» А «плебейская» подоплека такого рода социальных амбиций раскрывается автором вольно или невольно благодаря ранее приведенным строкам из стихотворения подлинно народного русского поэта Кольцова «Бегство»: «Будем жить с тобой по-пански: / Эти люди нам друзья…». Исторически обусловленный стратегический просчет, проявивший себя в системе демократической социальной утопии Чернышевского, был пророчески как бы угадан Гоголем-драматургом Условно говоря, Чернышевский попался в капкан, который «лукавый» Гоголь поставил и спрятал в «Лакейской».
Разрабатывая тему жизни-игры, Гоголь объективно и, видимо, субъективно следовал, как уже сказано, за Шекспиром. Но под пером Гоголя шекспировская тема обогатилась темой духовного становления личности, идущей сложной дорогой к грядущему откровению, заключенному в христианских религиозных заветах. У Шекспира такого и ничего подобного не было. Гоголю пришлось искать истину в других сферах, поскольку английский драматург аналогичного рода «идеальных» духовных проблем не касался. За это его и критиковал Л. Толстой, написавший специальный критический очерк «О Шекспире и о драме», где он говорит, что после того, как «было решено, что верх совершенства есть драма Шекспира», «все писатели драм» стали создавать произведения не только без всякого « религиозного, но и нравственного содержания» [Толстой, 1985. С. 333]. Поэтому Л. Толстой считал, что чем скорей писатели освободятся от «ложного восхваления Шекспира, тем это будет лучше» [Там же. С. 335].
Шекспиризм Гоголя был свободен от этого упрека. Во-первых, потому, что Гоголь по-своему ассимилировал в основном специфику только художественного дара Шекспира. А ведь Толстой признавал, что Шекспир «для своего времени был хороший сочинитель», «недурно владел стихом, был умный актер и хороший режиссер» [Там же. С. 334]. Во-вторых, Гоголь основывал свою художественную систему на религиознонравственном фундаменте. Между прочим, Толстой признавал за Гоголем это достоинство. Он говорил, что «Гоголь – огромный талант, прекрасное сердце» [Там же. С. 340]. Толстой выделял такие «прекрасные литературные произведения», как первая часть «Мертвых душ» и «Ревизор». Он акцентировал и нравственно-религиозный смысл его произведений. Правда, Толстому очень не нравились «теоретические рассуждения Гоголя поучительного характера, которые проявляются и во многих письмах» [Там же. С. 341]. В данном случае Толстой был слишком категоричен, поскольку Гоголь сознательно хотел донести до читателя и зрителя жизненно важные идеи и концентрировал внимание именно на духовном мире, утверждая христианский взгляд на жизнь человека и общества. Кстати, сам Толстой в этом отношении был не безгрешен.
«Теория» у Гоголя органично входила в универсальную систему его сочинений, расширяя духовный мир, характерный для шекспировских пьес, до предельных границ божественного «макрокосма». Художественная память Гоголя помогала ему осмыслить глобальные жизненные потрясения и найти свой выход из трагического состояния бытия, который просматривался чисто проблемно в религиозном истолковании различного рода коллизий, а в эстетическом плане программировался, в частности, и через комплекс драматургических произведений. С точки зрения гоголевской художественной стратегии их закономерно трактовать как органичную часть целостной поэтической системы, которую можно определить обобщающим термином – «книга бытия».