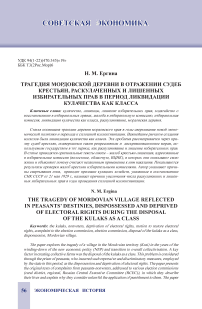Трагедия мордовской деревни в отражении судеб крестьян, раскулаченных и лишенных избирательных прав в период ликвидации кулачества как класса
Автор: Ергина Наталья Михайловна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Советская экономика
Статья в выпуске: 2 (33), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена трагедии деревни мордовского края в годы свертывания новой экономической политики и перехода к сплошной коллективизации. Важнейшим рычагом создания колхозов была ликвидация кулачества как класса. Эта проблема рассматривается через призму судеб крестьян, подвергшихся таким репрессивным и дискриминационным мерам, используемым государством в тот период, как раскулачивание и лишение избирательных прав. В статье приводятся оригинальные тексты писем - жалоб крестьян-лишенцев, адресованные в избирательные комиссии (волостные, областную, ВЦИК), в которых они описывают свою жизнь и объясняют почему считают незаконным применение к ним наказания. Показываются результаты проверки жалоб крестьян избирательными комиссиями. Автор указывает причины свертывания нэпа, приводит признаки кулацких хозяйств, указанные в постановлении СНК СССР от 21 мая 1929 г., называет причины увеличения числа раскулаченных и лишенных избирательных прав в годы проведения сплошной коллективизации.
Кулачество, лишенцы, лишение избирательных прав, ходатайство о восстановлении в избирательных правах, жалоба в избирательную комиссию, избирательная комиссия, ликвидация кулачества как класса, раскулачивание, мордовская деревня
Короткий адрес: https://sciup.org/14723801
IDR: 14723801 | УДК: 94(1-22)(470.345)6199
Текст научной статьи Трагедия мордовской деревни в отражении судеб крестьян, раскулаченных и лишенных избирательных прав в период ликвидации кулачества как класса
The paper explores the tragedy ofa village in the Mordovian territory (Krai) in the years ofthe winding-down ofthe new economic policy (NEP) and transition to overall collectivisation. A key factor in creating collective farms was the disposalofthe kulaks as a class. Thisproblem is considered throughtheprism ofpeasants, who incurred suchrepressive and discriminatory measures, employed by the state in this period, as the dispossession and deprivation ofelectoral rights. Thepaperpresents the original texts ofcomplaints frompeasants-nonvoters, addressedto various election commissions (rural district, regional, Russian Central Executive Committee (RCEC)), in which they describe their lives and explain why they consider unlawful the application ofpunishment to them. The paper reveals the inspectoral follow-up on peasants’ complaints to electoral commissions. The author gives account of the reasons that caused the curtail of NEP, provides characteristics of the kulak farms, specified in the decree issuedby the USSR Council ofPeople’s Commissars in May 21, 1929, elaborates on the reasons ofincreased number ofthe dispossessed and deprived-of-rights people in the years ofoverall collectivisation.
Проблемы, связанные с поиском исторического опыта защиты прав человека и гражданина, становятся наиболее актуальными в настоящее время в связи с развитием демократических традиций в России. Интерес к проблеме репрессивной политики советского государства, и в частности одному из ее направлений – раскулачиванию и лишению значительной части населения избирательных прав, на современном этапе обусловлен процессом рассекречивания архивных документов, в недавнем прошлом закрытых для беспристрастного взгляда исследователей.
Проблема раскулачивания и лишения избирательных прав граждан СССР в период ликвидации кулачества как класса, являясь самостоятельной темой исследования, дает возможность не только раскрыть закономерности становления и эволюции репрессивной политики, направленной на ликвидацию ряда социальных категорий, но и показать взгляд самих крестьян на эту проблему.
Во второй половине 1920-х гг. партийный и государственный аппарат советского государства все чаще стал проявлять недовольство новой экономической политикой. Непосредственным поводом для свертывания нэпа послужил очередной кризис хлебозаготовок зимой 1927–1928 гг. В результате произошла корректировка всех направлений внутреннего курса страны. Несмотря на хороший урожай 1927 г., государство испытывало большие трудности с хлебозаготовками. Главную роль в торговле продуктами и снабжении ими населения в стране играл частник. В связи с этим была выдвинута задача полного его вытеснения за счет государственной и кооперативной торговли. В январе 1928 г. Политбюро ВКП(б) проголосовало за применение чрезвычайных мер при выполнении пла- на хлебозаготовок. Вооруженные отряды, разъехавшиеся по всей стране, производили повальные обыски и реквизиции хлебных излишков. Их владельцев зачисляли в «кулаки» и судили по ст. 108 УК РСФСР (спекуляция), а имущество, скот, инвентарь изымали в пользу государства [6, с. 38].
Еще одним из способов нажима на кулаков было лишение их избирательных прав. В связи с этим ВЦИК рекомендовал избирательным комиссиям «особо серьезное внимание» уделить составлению списков лиц, лишенных избирательных прав, согласно инструкции. «Исполкомы, сельсоветы и избирательные комиссии должны принять действительные меры, обеспечивающие полное устранение от выборов лиц, предусмотренных ст. 14 и 15 инструкции по перевыборам в советы», – говорилось в обращении ВЦИКа [1, л. 38].
21 мая 1929 г. было издано постановление СНК «О признаках кулацких хозяйств». Согласно этому документу к кулацким были отнесены все крестьянские хозяйства, обладающие одним из следующих признаков:
«а) если хозяйство систематически применяет наемный труд для сельскохозяйственных работ или в кустарных промыслах и предприятиях – за исключением случаев применения наемного труда в тех пределах, в которых оно, согласно законодательству о выборах в Советы, не влечет за собой лишения избирательных прав;
-
б) если в хозяйствах имеется мельница, маслобойня, крупорушка, просорушка, вол-ночесалка, шерстобитка, терочное заведение, картофельная, плодовая или овощная сушилка или другое промышленное предприятие – при условии применения в этих предприятиях механического двигателя, а также если в хозяйстве имеется водяная или ветряная мельница с двумя или более поставами;
-
в) если хозяйство систематически сдает в наем сложные сельскохозяйственные машины с механическими двигателями;
-
г) если хозяйство сдает в наем постоянно или на сезон отдельные оборудованные помещения под жилье или предприятие;
-
д) если члены хозяйства занимаются торговлей, ростовщичеством, коммерческим посредничеством или имеют другие нетрудовые доходы (в том числе и служители культа)» [2, с. 221–222].
Кроме того, согласно этому документу, Советы народных комиссаров союзных республик и краевые (областные) исполнительные комитеты получали право видоизменять указанные в постановлении признаки, учитывая местные условия [2, с. 222].
Усугубило ситуацию в данной сфере решение ЦК ВКП(б) о «крутом повороте от политики ограничения кулачества к политике ликвидации кулачества как класса на основе сплошной коллективизации» на основании резолюции «Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства» от 17 ноября 1929 г. [4–5].
Как говорилось выше, одной из мер, которыми власти пытались воздействовать на неугодных крестьян, было лишение избирательных прав. Это привело к значительному увеличению количества «лишенцев» как в целом по стране, так и на территории Мордовии в частности. В отчете Мордовского областного исполкома об этом говорилось: «Тут уж местá не старались о том, как бы исправить ошибки, допущенные в прошлую избирательную кампанию, а занялись сведением личных счетов, внося в списки “лишенцев” пачками таких лиц, которые никогда не эксплуатировали, никогда не торговали, стараясь проявить свою власть, что называется во всю, дескать докажи, что ты не эксплуататор, докажи, что ты не торговец» [3, с. 16; 9].
Число выявленных «кулаков» в Мордовии также стало расти: до проведенных мероприятий удельный вес крупного крестьянского хозяйства не превышал 1 % (к 1 июля 1929 г. он составил 0,93 %) то к
1 августа 1929 г. достиг 1,16 %, к 1 сентября – 1,26 %, а к 1 января 1930 г. – 2,03 % [5, с. 23].
Достаточно много материала о судьбах раскулаченных в этот период крестьян можно найти в личных делах лиц, лишенных избирательных прав, где сосредоточены разнообразные документы. Это различные сопроводительные бумаги и документы избирательных комиссий (выписки из протоколов, анкеты, запросы и др.), а также личные документы лишенцев (ходатайства о восстановлении в избирательных правах, жалобы на неправильное лишение). Все названные документы достойны подробного и внимательного изучения. Благодаря этим материалам можно представить доводы, которые, с точки зрения лишенцев, должны были убедить комиссии в необходимости восстановить человека в правах, реакцию представителей власти и предпочтения в том, кто был достоин избирательных прав. Интерпретация этих документов дает возможность охарактеризовать как самих людей, так и ту политическую среду, в которой они жили.
Заявления лишенцев могут быть широко использованы для реконструкции крестьянской психологии, поскольку составлялись они таким образом, чтобы произвести благоприятное впечатление на членов комиссии. Лишенцы не слишком приукрашивали информацию о себе, так как необходимо было подтвердить правдивость приводимых сведений различными справками. И если заявителя уличали во лжи, он терял шансы на восстановление.
Многие раскулаченные причины своих бед связывали с клеветой, доносами и сведением личных счетов. Впрочем анализ архивных материалов подтверждает то, что избирательные инструкции на местах нередко «истолковывались так, как вздумается». С одной стороны были случаи укрывательства от лишения «действительно эксплуататорских элементов». И особенно явные перегибы были отмечены с того момента, когда начали проводить мероприятия по ликвидации кулачества как класса.
С другой стороны происходило сведение личных счетов, в результате чего лишали избирательных прав середняков, бедняков.
Типичным примером сказанному является жалоба в Мордовскую областную избирательную комиссию жителя с. Дюрки Ардатовского района Кузьмы Андреевича Аблясова от 26 декабря 1933 г., лишенного избирательных прав в 1933 г. за торговлю. В указанной жалобе читаем: «В прилагаемой выписке протокола заседания Ардатовского РИК от 25 апреля 1933 г. видно, что я лишен избирательных прав по статье 14 п. “б” инструкции ВЦИК по признакам торговли. Это незаконно по следующим причинам:
-
1) Из представленной экономической характеристики, заверенной председателем сельсовета с. Дюрек от 20 декабря 1933 г. видно, что я торговал с 1907 по 1910 г. дегтем, солью и спичками по крайней нужде. Больше никакой торговли не было.
-
2) Бывший председатель сельсовета, не-безъизвестный по своим преступным действиям Глухов И. Д. придравшись к тому, что я в означенное время торговал дегтем и извратив лживо обстоятельства, поднял вопрос и добился лишения меня избирательных прав за то, что я не дал ему требуемых им 300 руб., что может подтвердить Ведяш-кин Анисим Васильевич и Степашкин Василий Иванович.
-
3) Я колхозник и инициатор организации колхоза в 1930 г., откуда был вычищен тем же Глуховым, но восстановлен (выписка прилагается).
Один из сыновей, Платон Кузьмич, погиб в гражданской войне как красный партизан. Другой – Иван все время находился на службе в сов[етских] учреждениях.
-
4) В торговле с 1910 г. и с революции я замечен не был, садов не арендовал, а был три сезона караульщиком [садов].
Посему прошу восстановить в избирательных правах, проведя полное производство по данному делу» [10, л. 11].
Постановлением Мордовской об-лизбиркомиссии от 6 сентября 1934 г. К. А. Аблясов в избирательных правах был восстановлен [10, л. 1]. Основанием к вос- становлению послужили результаты «расследования дела на месте» 21 августа 1934 г., по которому было установлено: «Аблясов К. А. занимался только мелкой торговлей, признаков кулацкого хозяйства нет» [10, л. 2].
Жительница с. Дюрки Ардатовского района Евдокия Алексеевна Батяйкина, раскулаченная и лишенная избирательных прав в 1929 г. как член семьи (жена) кулака, переживала из-за потери имущества и всю вину за раскулачивание возлагала на бывшего председателя Дюркинского сельсовета. В своей жалобе в Мордовскую областную избирательную комиссию от 12 января 1932 г. она писала: «Прошу вернуть незаконно отобранное имущество Дюркинским сельсоветом, б[ывшим] председателем Глуховым. В 1932 году обложили по твердому заданию в 24 часа выполнить все задание при расстоянии примерно 14 км. Рожь смогли сдать, а яровую не успели. После чего отобрали весь имеющийся хлеб, семена и фураж. На 13 человек семьи примерно 300 пудов. Сельсовет растранжирил и сказал лишь 160 пудов. Денег ни копейки не дали.
В январе 1933 года отобрали одну лошадь с упряжью летний и зимний ход, одну корову, 4 овцы, конюшню, баню, амбар и сенницу. Отобранный скот в колхозе. В марте выдворили из дома. За мясозаготовку наложили штраф 44 кг – сдали своевременно. После наложили еще 42 кг в однодневный срок. Скота уже не было, купить в кратковременный срок не могли, за что и раскулачили.
Мы числились середняками, предприятий не имели за исключением 1/6 части маслобойки сданной в сельков в 1928 г., в которой работали без наемной силы. Вечной земли не было. Не торговали.
Три сына служили в Красной Армии. Андрей Павлович погиб в рядах Красной Армии. Его жена с сыном получала пенсию. Иван Павлович служил с 1924 по 1926 г. командиром Восточной <…> 13 стрелк[овой] дивизии <…> 4 полк, после службы сверхсрочно вел подготовку в Ниж[нем] Новгороде 17 дивиз[ия] 49 полк. Демобилизован в январе 1932 г. Сергей Павлович служил в ОГПУ 2 года 3 месяца. Четвертый сын принят в Красную Армию. Взяли или нет неизвестно, его нет. Пятая дочь инвалидка слепая 30 лет. Мне 56 лет.
Сельсовет нарушил ст. 271 ГПК и постановление ВЦИК и СНК от 25.06.32 г. о революционной законности. В связи с сельскохозяйственной кампанией, раскулачиванию не подлежали. Раскулачили по личным счетам.
В Ардатовский РИК подавались две жалобы – без ответа. Вся семья в разброде по квартирам. Две снохи ушли из-за квартиры от своих мужей и вышли [за] других не дождавшись результата» [11, л. 12].
Постановлением Мордовского областного исполкома от 6 сентября 1934 г. А. А. Батяйкина в избирательных правах была восстановлена [11, л. 1]. Решение в вопросе возврата конфискованного имущества принято не было. Ардатовский РИК уведомил Мордовский облисполком, что дом Батяйкиной «находится под правлением колхоза, лошадь сдохла, корову колхоз продал» [11, л. 16].
Или еще пример – история жителя с. Русское Маскино Краснослободского района Григория Денисовича Митрофанова, раскулаченного и лишенного избирательных прав в 1931 г. за аренду земли.
В своем заявлении в Мордовский областной исполком Григорий Денисович пишет: «В апреле 1931 г. я лишен избирательных прав как бывший арендатор земли и эксплуататор чужого труда. В силу этого мое хозяйство, отнесенное местными органами власти к кулацкому, подвергнуто раскулачиванию, выразившееся в следующем: выселение из дома, отбор лошади, коровы, 10-ти овец с ягнятами, обложение непосильными налогами, как денежными, так и по хлебозаготовкам. Тогда как мое хозяйство было уже раскулачено, а озимый посев урожая 1931 г. был свезен на колхозное гумно. Между прочим, хозяйство мое уже ликвидированное было обложено хлебозаготовками в количестве 30 п. Тогда как я не только мог это выполнить, но даже не мог кормиться, будучи лишен всего.
За невыполнение всего этого я отдан местной властью под суд, который основываясь показаниями секретаря ячейки <…> и других применил мне лишение свободы на 1 год, каковое я отбыл. По отбытии этого тот же суд приговаривает меня к выселению из пределов Мордовской области на 3 года.
Все это действие местных органов власти, в частности секретаря ячейки <…> и председателя сельсовета <…> я считаю несправедливым и преувеличенным, а потому и не заслуживающими проведения в жизнь, а лишь обоснованными на личных счетах и допускаемых указанными личностями перегибов (последние, т. е. перегибы, отмечены высшими органами Советской власти, в результате чего и получилось то, что секретарь ячейки <…> и пред[седатель] с/сов[ета] <…> за допускаемые ими перегибы сняты с работы).
На основании вышеизложенного и того, что хозяйство мое как до революции, а также и после не выходило из пределов трудового, наемный труд никогда не применялся, т.к. при наличии избытка трудоспособных членов моей семьи, имеющаяся арендная земля в количестве 1,5 дес. обрабатывалась личным трудом членов моего семейства. Арендовать эти 1,5 дес. меня заставило малоземелье, т.к. при разделе земли, в силу существующего тогда порядка, я получил надельной земли всего на 2 души (а семейство мое состояло из 9 чел[овек]. Это были женщины, на которых надела тогда не давали. Землю давали на мужские души.
Поэтому прошу Вас все указанные выше действия местных органов власти и постановление нарсуда отменить и восстановить меня в правах гражданства. И отобранные у меня дом и другое имущество возвратить)» [13, л. 3–4 об.].
Постановлением Краснослободской районной избиркомиссии от 20 октября 1932 г. Г. Д. Митрофанов в избирательных правах был восстановлен. Основным аргументом положительного решения явилось постановление сельской избирательной комиссии от 4 августа 1932 г., в котором был подтвержден факт того, что Григорий Дени- сович в своем хозяйстве наемный труд не использовал [13, л. 5].
Житель с. Кенди Ичалковского района Василий Семенович Планкин, 1901 года рождения, также всю вину своей беды возлагал на личную неприязнь со стороны председателя сельского Совета. Вот его история, которую он описал в письме, адресованном Председателю ВЦИКа М. И. Калинину (копии прокурору РСФСР и председателю Мордовского облисполкома): «Убедительно прошу не путем бумажной переписки, а через живых представителей расследовать мою вопиющую жалобу и пресечь в корне творящийся у нас в с. Кен-ди произвол, граничащий не только с грубыми перегибами политики центра, но и с явным вредительством.
До революции наше хозяйство было бедным. Служил в РККА как младший нач. состава 1918–22 гг. По демобилизации и до 1930 г. беспрерывно состоял на общественной работе. Все это подтверждается постановлением РИКа от 12.04.30 г., по которому тогда было возвращено имущество (неправильно отобранное). На 1930–31 гг. мое хозяйство индивидуально не облагалось как середняцкое.
Несмотря на приведенные обстоятельства, подтвержденные в 1930 г. по данным обследования на месте представителями прокуратуры и редакции газеты “Завод и пашня”, я теперь вновь окончательно разорен и даже выселен из дома.
Я раскулачен по личным счетам пред[седателя] сельсовета <…> и его тестя <…> с которым мы имели маслобойку» [12, л. 6–7 об.].
По своей жалобе В. С. Планкин ни «путем бумажной переписки», ни «через живых представителей» ответа так и не получил.
Естественно, не все ходатайства о восстановлении в избирательных правах удовлетворялись. Не помогали ни занимаемые выборные должности, ни отсутствие признаков кулацкого хозяйства, ни отсутствие документального подтверждения торговли.
Житель с. Новая Карьга Старо-Синдровского волисполкома Краснос- лободского уезда Петр Степанович Ду-доладов был лишен избирательных прав в избирательную кампанию 1927 г. как торговец-прасол. В своем заявлении от 1 июня 1927 г. в Старо-Синдровский ВИК и Краснослободский УИК Петр Степанович писал: «В выборную кампанию 1 февраля 1927 г. сельской избирательной комиссией с. Новой Карьги я лишен прав гражданина. Я не знал за что я лишен. Но мне пояснили, что как торговец. Но я объясняю им, что никакой торговлей я не занимался, а занимался исключительно с[ельским] хозяйством и до настоящего года я никогда не лишался права голоса. В 1920 году я был населением села Новой Карьги избран председателем с/ совета и среди населения пользовался авторитетом, и при своей службе не было никакой растраты. А также и в настоящее время выполняю все требования с/совета и никаких задолжностей гос[ударственных] налогов за мной не имеется. Выполняю я все аккуратно и не хочу быть таким позором в свободной стране как СССР и носить позорное звание “Прасол”. А хочу быть свободным гражданином и полезным СССР. А посему прошу вышестоящие органы власти восстановить меня в правах гражданина и не отказать в моей просьбе» [8, л. 13].
Старо-Синдровский волисполком рассмотрел заявление П. С. Дудоладова на заседании 5–7 июля 1927 г. и отправил запрос в Ново-Карьгинский сельсовет. На запрос ВИКа председатель Ново-Карьгинского сельсовета писал, что Дудоладов «занимался торговлей в период 1924–1925 гг. Набирал в долг свинину у граждан и отправлял [ее] в Москву. После чего расплачивался с гражданами. Сумма оборота до 800 руб. за зимний сезон» [8, л. 10]. Вместе с этим в волисполком была отправлена и анкета на Дудоладова, которая оформлялась на всех лиц, возбудивших ходатайство о предоставлении им избирательного права. Из анкеты выясняется, что П. С. Дудоладов, 52 лет, до 1914 г. и по настоящее время – крестьянин-хлебопашец. Социальное положение – середняк. Членом профсоюза и политических партий не был. В 1919 г. был избран пред- седателем сельсовета. До 1917 г. обладал следующим имуществом: 1 лошадь и 1 корова. На момент составления анкеты имел 1 лошадь, 1 корову, 3 овцы, дом. Торговлей не занимался, землю в собственности не имел, труд наемных рабочих не использовал, торговые и промышленные предприятия не имел. В Красной армии не служил. Репрессиям не подвергался. Однако все эти сведения были записаны со слов самого Петра Степановича и никакими документами не подтверждались. На все его имущество была составлена опись, заверенная новым председателем сельсовета. Согласно описи в хозяйстве имелось: дом с надворными постройками (оцененный в 175 руб.), амбар каменный (150), 1 лошадь (150), 1 корова (50), 3 овцы (15), амбар деревянный (25 руб.), 5 кур (1 руб. 50 коп.) [8, л. 14– 14 об.].
Ориентируясь на присланные документы, Старо-Синдровский волисполком отказал Дудоладову в ходатайстве о восстановлении в избирательных правах.
Изучив решения сельсовета и воли-сполкома, президиум Краснослободского уездного исполкома на заседании от 14–15 октября 1927 г. постановил то, что «невозможно восстановить в избирательных правах П. С. Дудоладова, как торговца-прасола, в настоящее время не занимающегося общественно-полезным трудом» [8, л. 18].
В результате воплощения в жизнь политики ликвидации кулачества как класса нарушались нравственные семейные устои. Были случаи, когда при лишении избирательных прав одного члена семьи, другие – пытались показать свою непричастность к «прегрешениям» родственника-«кулака». Жены отказывались от мужей, мужья – от жен, дети – от родителей и т. д.
В этом смысле показателен пример истории семьи Чугуновых из с. Куракина Ардатовского района. Яков Федорович Чугунов был лишен избирательных прав как член семьи (сын) раскулаченного торговца. В своей жалобе в Мордовский областной исполнительный комитет от 1 января 1935 г. он пишет: «Я, Чугунов, лишен избирательных прав. На списке позорного листа в своем сель[ском] совете я появился неожиданно для моего удивления через шесть лет в [19]30 году, после того, как лишили моего отца в [19]24 г. как кустаря-торговца, когда мне было от роду 16 лет. В это время, т. е. с [19]24 по [19]30 г. я совершенно об этом не знал лишь только потому, что я был несовершеннолетним и меня до поры до времени не находили нужным лишать в правах. Но когда мне стало 20–21 год, я был призван в трудовую армию и сам не мог знать почему, разве только потому, что мой отец лишенец, с которым до этого я не имел ничего общего в отношении жизненных связей. Я их порвал окончательно с момента своего возмужания. Не смотря на то, что я жил с отцом, его ремесла я не принимал, за что получал неоднократные побои от него. Я хотел быть кузнецом, слесарем. До момента своего призыва я был неопороченным и все мои личные документы говорили за мое достоинство советского гражданина, лишь только потому, что наш сельсовет хорошо знал, что я с давних пор с отцом не имел ничего общего. Я узнал, что я тоже считаюсь лишенцем, как сын лишенца в момент своего призыва, т. е. в [19]30 году… [когда] меня зачислили в труд[овую] армию. Но официально по моим личным документам, а также по данным сель[ского] совета я не считался лишенцем и что давало мне возможность получить свое ремесло, т. к. в труд[овую] армию в этот момент я принят не был в силу моей болезни по ст. 105 и был освобожден. Вскоре я снова пошел на производство, где работал до конца 1934 года. В труд[овую] армию я был зачислен постановлением РИКа от [19]29 года, как член семьи лишенца. О чем я узнал в конце 1934 г., когда приехал домой в отпуск. На мой вопрос сель[скому] совету почему меня лишили, сельсовет ответил, что мы ничего не знаем, т. к. мы тебя не лишали, а данные поступили из РИКа. Я обратился с ходатайством в РИК и постановлением РИК от 21 сентября 1934 года я был вос- становлен в правах. Но не успело пройти и двух месяцев, как РИК новым постановлением от 9 ноября 1934 г. за № 24 лишает меня снова за то, что я якобы в бегах. Но я не был в бегах, я работал на производстве, о чем знал сельсовет.
Обосновав на этом свое обвинение, РИК даже не посчитался с тем, что вчера он меня восстановил, как не подлежащего лишению, и с официальными данными сельсовета, которые были даны в доказательство моей честной и благородной жизни. В своем прошлом постановлении РИК 21 сентября 1934 года восстановил меня, как самостоятельное лицо, не имеющее связи с отцом. Несмотря на мои 27 лет я личным трудом добываю средства к существованию. О чем РИК авторитетно зафиксировал в своем постановлении. Поэтому прошу вышестоящий орган разобрать мою жалобу» [14, л. 8–9].
Жалобу удовлетворили. Решением Мордовской областной избирательной комиссии от 26 января 1935 г. Я. Ф. Чугунов был восстановлен в избирательных правах [14, л. 8 – 9].
Это лишь единичные примеры того, как менялась жизнь крестьян в мордовском крае в годы осуществления политики ликвидации кулачества как класса. Репрессиям подвергались не только те хозяйства, которые подпадали под постановление СНК СССР от 21 мая 1929 г. «О признаках кулацких хозяйств…», но и те, кто был неугоден представителям местной власти. Нередко происходило банальное сведение личных счетов, которое в итоге коренным образом трансформировало жизненный уклад всей семьи, подпавшей под репрессию.
Список литературы Трагедия мордовской деревни в отражении судеб крестьян, раскулаченных и лишенных избирательных прав в период ликвидации кулачества как класса
- Государственный архив Пензенской области. -Ф. Р-2. -Оп. 4. -Д. 227.
- Документы свидетельствуют: из истории деревни накануне и в ходе коллективизации, 1927-1932 гг./под ред. В. П. Данилова, Н. А. Ивницкого. -М.: Политиздат, 1989. -526 с.
- Ергина Н. М. Работа государственных органов по устранению нарушений избирательного законодательства весной-летом 1930 года (по материалам мордовского края)/Н. М. Ергина//Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. -2013. -№ 1 (21). -С. 16-21.
- История Мордовии: в 3 т. Т. 3: От Гражданской войны к гражданскому обществу/Н. М. Арсентьев, В. М. Арсентьев, Э. Д. Богатырев . -Саранск: Изд. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева, 2010. -512 с.
- Мордовия в истории России: дорогами тысячелетия/Н. М. Арсентьев, В. М. Арсентьев, Э. Д. Богатырев ; под ред. чл.-корр. РАН Н. М. Арсентьева; Изд. центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарева. -Саранск, 2012. -596 с.
- Морозова Н. М. Лишение избирательных прав на территории Мордовии в 1918-1936 гг.: монография/Н. М. Морозова. -Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2009. -156 с.
- Надькин Т. Д. Аграрная политика советского государства и крестьянство в конце 1920-х -начале 1950-х гг. (по материалам Мордовии): автореф. дис. … д-ра ист. наук/Т. Д. Надькин. -Саранск, 2007. -46 с.
- Центральный государственный архив Республики Мордовия (ЦГА РМ). -Ф. Р-149. -Оп. 1. -Д. 82.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-238. -Оп. 1. -Д. 236.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-425. -Оп. 1. -Д. 15.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-425. -Оп. 1. -Д. 39.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-425. -Оп. 1. -Д. 1766.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-425. -Оп. 1. -Д. 2618.
- ЦГА РМ. -Ф. Р-425. -Оп. 1. -Д. 2713