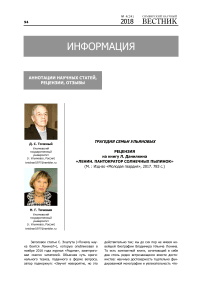Трагедия семьи Ульяновых. Рецензия на книгу Л. Данилкина ≪Ленин. пантократор солнечных пылинок≫ (М. : Изд-во ≪Молодая гвардия≫, 2017. 783 с.)
Автор: Точеный Д. С., Точеная Н. Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Аннотации научных статей, рецензии, отзывы
Статья в выпуске: 4 (34), 2018 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14114513
IDR: 14114513
Текст статьи Трагедия семьи Ульяновых. Рецензия на книгу Л. Данилкина ≪Ленин. пантократор солнечных пылинок≫ (М. : Изд-во ≪Молодая гвардия≫, 2017. 783 с.)
ТРАГЕДИЯ СЕМЬИ УЛЬЯНОВЫХ
РЕЦЕНЗИЯ на книгу Л. Данилкина «ЛЕНИН. ПАНТОКРАТОР СОЛНЕЧНЫХ ПЫЛИНОК» (М. : Изд-во «Молодая гвардия», 2017. 783 с.)
Заголовок статьи С. Экштута («Почему наука боится Ленина?»), которую опубликовал в ноябре 2016 года журнал «Родина», заинтриговал многих читателей. Объясняя суть оригинального тезиса, поданного в форме вопроса, автор подчеркнул: «Звучит невероятно, но это действительно так; мы до сих пор не имеем новейшей биографии Владимира Ильича Ленина. То есть компактной книги, сочетающей в себе два столь редко встречающихся вместе достоинства: научную достоверность тщательно фундированной монографии и увлекательность чте- ния документального произведения, мастерски написанного рукой беллетриста. Да, в эпоху Советского Союза по идеологическим соображениям исключался правдивый рассказ о ряде увлекательных сюжетов из биографии вождя — «пломбированном вагоне», взаимоотношениях со Сталиным и Троцким, частной жизни, личной ответственности за превращение войны империалистической в гражданскую. Но что мешает это сделать сейчас, когда для исторической науки нет ни запретных тем, ни фигур умолчания?» [30, с. 29].
Итак, наконец-то сложились благоприятные условия для написания крайне необходимого солидного труда о создателе Советского государства. Появилась, по мнению С. Экштута, долгожданная возможность не только интересно рассказать о жизненном пути В. И. Ленина, но и, во-первых, «осмыслить трагедию Русской Смуты», а во-вторых, «дать ответы на животрепещущие вопросы современности» [30, с. 30]. Однако любого честолюбивого исследователя с большим опытом и широким кругозором (да ведь надо еще найти такого!), рискнувшего взяться за решение столь сложных и масштабных задач, ждут очень серьезные препятствия и проблемы.
Нелегким барьером, который обязан преодолеть добросовестный ученый, является суровая необходимость тщательного изучения огромного наследия вождя пролетарской революции, зафиксированного в 55-томном полном собрании сочинений и четырех десятках «Сборников». Дело это невероятно сложное, поскольку требует от ревностного служителя Клио основательной подготовки в области философии, экономики, литературы, логики, психологии. А сколько времени надо потратить на хотя бы поверхностное знакомство с мемуарами о В. И. Ленине! Ведь за перо брались не только те, кто часто общался с ним, но и те, кто видел его один-два раза. Наверное, никто не будет спорить с тем, что биографу основателя российской коммунистической партии следует проштудировать разнообразную литературу, в которой освещается внутренняя и внешняя политика нашего государства и других стран (от США до маленькой Сербии) во второй половине XIX — первой четверти XX века.
Но, конечно, главная проблема для летописца жизни творца советской диктатуры — составление кратких, точных и емких характеристик тех, с кем встречался или переписывался В. И. Ленин, кого он уважал или ненавидел, кому выносил беспощадные смертные приговоры.
Каждому, будь это Троцкий, Керенский, Вильсон, Арманд, Махно, М. А. Ульянова, Николай II или кто-либо другой, надо дать максимально объективную аттестацию, чуждую политической ангажированности или личных пристрастий. Конечно, такого подхода от исследователя в области биографического жанра ожидать практически невозможно. Но все-таки хотелось бы. Вот почему у нас вызвала большой интерес работа Л. Данилкина с претенциозным и даже загадочным названием «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». Более чем любопытно, какой же «матерый человечище» предстанет перед нами со страниц этой книги — благодетель людского рода, кровавый тиран, фигура мистического плана или непонятное существо мифологического толка? Наше нетерпение подогревалось и тем, что труд Л. Данилкина был высоко оценен: автор стал лауреатом премии «Большая книга 2017».
Рецензируемое издание — весьма солидный по объему фолиант, насчитывающий почти 800 страниц. Приятно, однако, что он впечатляет не только объемом, но и поражает историческое общество изысканной филологической культурой, массой оригинальных сравнений, ярких образов, необычных параллелей и богатством мыслей. Беллетризованное научное повествование Л. Данилкина заслуживает самого детального, неторопливого и обстоятельного анализа в форме обширной рецензии в несколько десятков страниц. Поэтому мы решили на данном — вступительном — этапе ограничиться попыткой критического разбора первого раздела книги («Симбирск. 1870—1887»), который охватывает первую треть жизни В. И. Ленина.
Никому не ведомо, сколько гектаров леса срубили в СССР, дабы приготовить несметное количество рулонов бумаги для печатной продукции, воспевающей революционные, педагогические, трудовые, учебные деяния членов семьи Ульяновых. Денег на агитацию и пропаганду тоталитарная система не жалела. О Ленине, его родственниках (родителях, братьях и сестрах) было позволительно писать только с благоговением, восторгом, восхищением, упоением. Задыхаясь от радости, замирая в немом изумлении, советские обществоведы создали небеснолазурные портреты представителей коммунистического Олимпа.
Выполняя заказ идеологов КПСС, советские историки изобразили отца В. И. Ленина, способного, добросовестного, честного, инициативного губернского чиновника, крупным блестящим администратором и замечательным педагогом рос- сийского и даже мирового масштаба. И. Я. Баранов и М. И. Никитин нашли у него массу достоинств: «И. Н. Ульянов выступал на поприще народного просвещения как новатор. Вся его педагогическая деятельность была пронизана прогрессивными устремлениями… Был очень чутким и внимательным человеком. Один из современников назвал его «добрым гением учителей»… Тяжелое бремя обязанностей инспектора, а затем и директора народных училищ не мешало ему быть хорошим семьянином, примерным мужем, любящим и заботливым отцом… Ульянов оставил после себя богатое педагогическое наследие» [1, с. 56—58].
Самую возвышенную характеристику отцу «самого человечного человека» на земном шаре дал А. Л. Карамышев: «Есть имена людей, которые народ вечно хранит в своем сердце. Жизнь этих людей является как бы частицей истории. К таким относится И. Н. Ульянов — выдающийся деятель русского просвещения второй половины XIX века, один из наиболее прогрессивных педагогов России, смело выступавший в мрачные годы реакции с пропагандой идей К. Д. Ушинского, Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова» [10, с. 3].
Рассказывая о вкладе И. Н. Ульянова в сокровищницу российской воспитательной науки, Ж. Трофимов и Ж. Миндубаев сочли целесообразным процитировать писательницу М. Шаги-нян: «Дела и личность Ильи Николаевича заслонены именем его великого сына. Но нам надо учиться смотреть на него и изучать его не только как отца Ленина, а и одного из прекрасных русских педагогов» [27, с. 212].
Кажется, и после развала СССР ни один отечественный историк не бросил камня в симпатичного И. Н. Ульянова. Может быть, только некоторые из них в привычной манере преувеличивали его заслуги. В. Д. Данилов и Б. И. Павлов выражали уверенность в том, что имя его «было широко известно не только в Симбирской губернии, но и во всей России» [6, с. 108]. Еще далее шагнула О. А. Чинарова: она назвала Илью Николаевича «великим просветителем» [29, с. 102].
Отрадно, что Л. Данилкин, наконец, в 2017 году дерзнул отойти от привычных советских иконописно-бюрократических штампов и заговорить об отце Ленина реалистическим языком. Описание им внешности И. Н. Ульянова вызвало бы ужас у правоверного историка КПСС: «Помимо лысины, бакенбардов и золотого сердца, у Ильи Николаевича была некоторая склонность к острословию, которую он мог реализовать в небольшом клубе интеллектуальных зануд, люби- телей шахмат, латинских спряжений и лирики Некрасова. Одноклассник Ленина запомнил Илью Николаевича как «старичка елейного типа, небольшого роста, худенького, с небольшой седенькой, жиденькой бородкой, в вицмундире Министерства народного просвещения с Владимиром на шее…» (с. 11).
Данилкин Л. избежал трафаретного соблазна — нарисовать И. Н. Ульянова титаном педагогической мысли и исполином народного образования. Просто и отнюдь не коленопреклоненно он информирует о том, как работал отец Ленина: «Больше прочих его интересовали три области: просвещение малых народов, литература и шахматы. Бешеный путешественник (в его ведении находилось более 430 народных училищ), Илья Николаевич воспринимал должность как «хождение в народ» и посвящал огромную часть своего времени летучим ревизиям, целью которых было распространение начального образования (желательно в земских, народных, а не церковно-приходских школах) и спасение детей от розги и зубрёжки. Прогрессивному директору народных училищ, одержимому идеей духовной модернизации общества, деятельность внутри системы просвещения представлялась бесконечной битвой с реакционным левиафаном; известна его ироническая жалоба на то, что вместо народного просвещения государство занимается «затемнением». Возможно, антагонизм Ильи Николаевича и государства обычно преувеличивается: пореформенная крестьянская Россия объективно нуждалась в грамотных «новых людях», способных управлять машинами — и в индустрии, и в сельском хозяйстве» (с. 11).
На фоне безудержных похвал, которые расточали советские историки И. Н. Ульянову — мудрейшему и проницательнейшему отцу, отзыв Л. Данилкина о главе семьи покоробит а, может быть, и возмутит многих почитателей В. И. Ленина известной фамильярностью: «Профессиональный педагог, Илья Николаевич точно не был домашним деспотом, детей не лупил и позволял себе лишь самые безобидные эксперименты в сфере стимулирующих наказаний: провинившихся в семье Ульяновых сажали на черное «клеенчатое кресло» (с. 13). Обратим внимание на то, что Л. Данилкин не употребляет применительно к И. Н. Ульянову прилагательных «известный», «талантливый», «выдающийся» и т. д. Неужто он не в восторге и от его жены, которую, как и положено было, превозносили забубенные советские историки, не смевшие иметь свое мнение?
В официальной биографии вождя мирового пролетариата, изданной в 1955 году под грифом института Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина при ЦК КПСС, подчеркивалось: «Мать Владимира Ильича, Мария Александровна, была образованной женщиной, с большой силой воли и твердым характером. Она стремилась воспитать своих детей честными, образованными, идейными людьми» [14, с. 5]. Эти строки стали камертональными для всех российских ленино-ведов. Каждый из них получил карт-бланш на разукрашивание сего форменного портрета любыми идиллическими цветами. Идеализировать ее никому не возбранялось.
«Верным другом Ильи Николаевича в деле воспитания детей и приобщения к труду, книге, музыке, искусству, — отметила в 1969 году А. Н. Молева, — была его жена Мария Александровна: необычайно обаятельная и скромная, полная душевного благородства и простоты, она обладала твердым характером и большой силой воли. Никакие невзгоды не могли сломить или согнуть ее» [15, с. 33]. Спустя шесть лет А. И. То-муль нашла еще более редкостные грани богатой души матери В. И. Ленина: «Мария Александровна отличалась ровным веселым нравом, покорявшим обычно всех, кто с ней сталкивался. Тем сильнее сказывалось ее обаяние на детях, которым она отдала всю свою жизнь. И кто учтет, в какой мере она своим прекрасным и сильным духовным обликом повлияла на весь уклад их характера и мировосприятия?» [21, с. 55]. Е. Вечтомову в 1978 году восхитила та сторона облика М. А. Ульяновой, на которую другие исследователи не обратили должного внимания: «Мария Александровна была в своей семье не командиром, нет, скорее она дирижер. Не раздражаясь, без окрика, тихо, неторопливо управляя хозяйством и детьми, в то же время находясь в непрерывной работе» [3, с. 65—66].
Логическим завершением этой долговременной идеологической кампании, направленной на создание эталона прекраснейшей женщины и образцовой матери, явились книги Ж. А. Трофимова, увидевшие свет в конце XX века. Естественно, что в них не содержалось даже намека на какой-то возможный недостаток в поведении или характере М. А. Ульяновой. Она рисуется безупречным созданием. Не совершает никаких ошибок. Уже тем более не делает ничего дурного. Создается впечатление, что описание внешности матери Ленина, весьма обыкновенной, навеяно стихотворением А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье»: «Мария Александровна была невысокого роста, стройная. Очень красивым и одухотворенным было ее лицо: правильные, тонкие черты, выразительные карие глаза, открытый привлекательный взгляд» [25, с. 13]. При определении уровня умственного и духовного развития М. А. Ульяновой Ж. А. Трофимов тоже проявляет излишнюю увлеченность: «Мария Александровна была… искусной воспитательницей… в ней раскрылся выдающийся педагогический талант, который, будучи присущ человеку мудрому, честному, доброму, благородному и трудолюбивому, давал в воспитании достойные плоды, оказывал на детей развивающее и гуманизирующее влияние» [26, с. 34].
Подводя итоги жизненного пути М. А. Ульяновой, Ж. А. Трофимов явно преувеличил ее место и роль в российской истории: «Немеркнущий образ замечательной женщины необычайной нравственной красоты… навсегда останется вдохновляющим примером для нынешних и грядущих поколений» [14]. Желая подкрепить свое мнение о предмете своего глубочайшего, неподдельного, сердечнейшего поклонения, Ж. А. Трофимов напомнил о высказывании В. Д. Бонч-Бруевича, верного соратника В. И. Ленина (в нем чувствуется влияние древнеримской риторики): «Да будет славно имя — имя Марии Александровны Ульяновой — и имя ее не забудется из рода в род, из поколения в поколение нашего и всемирного революционного боевого пролетариата, ведущего классовую борьбу за свободу угнетенных народов не на жизнь, а на смерть. Она — мать Владимира Ильича!» [26, с. 182].
У мироточащего портрета коммунистической Джоконды россияне стояли в состоянии просветления едва ли не целый век. И вдруг к ним, погруженным в нирвану, подошел Л. Данилкин и, уподобившись вдумчивому экскурсоводу, повел речь без привычной патетики, даже чуть-чуть иронично: «Мария Александровна, пожалуй, — наиболее загадочная в этой семье фигура; она выглядит «обыкновенной» интеллигентной женщиной и разве что в пожилом возрасте несколько напоминает иллюстрации к «Пиковой даме». Похоже, ее не слишком смущало, что из пятерых доживших до взрослого возраста детей один оказался без пяти минут цареубийцей, второй — вождем полулегальной политической партии и еще трое — профессиональными, готовыми к тюрьме революционерами. После смерти она была канонизирована советской историографией» (с. 32).
Данилкин Л. более чем снисходительно оценивает систему обучения иностранным языкам, которую вела Мария Александровна, занимаясь со своими детьми: «Представления о том, что дом Ульяновых был чем-то вроде школы полиглотов, где все в свободной форме обсуждали повестку дня в понедельник по-английски, во вторник по-немецки, в среду по-французски и т. д., видимо, относятся к области мифологии; даже Ленин — с его большим талантом к иностранным языкам и опытом перевода книг — плохо понимал собеседников и постоянно жаловался на это в письменах: то же и его сестры» (с. 32—33).
Данилкин Л. не заметил феноменального педагогического дара у М. А. Ульяновой и отозвался о ее воспитательных способностях апатично: «Мать шестерых детей, Мария Александровна сумела организовать их жизнь таким образом, чтобы дом не превращался в ад и бардак» (с. 33).
Со всей очевидностью можно констатировать, что советские историки и Л. Данилкин по-разному оценивают способности и заслуги родителей В. И. Ленина. Однако у них выявляется единая позиция в определении уровня материального положения семьи Ульяновых в период проживания в Симбирске.
Ульяновские краеведы скрупулезно описали житейские трудности Ильи Николаевича, Марии Александровны и их детей. Ж. Трофимов с болью в сердце сообщает: «Частная квартира в доме Косолапова была уже шестым пристанищем Ульяновых за девять лет жизни в Симбирске и, как оказалось, принесла самую большую неприятность. В подвале стояла вода, роились комары, и Володя с Олей заболели малярией. Особенно тяжело страдал сын, очень ослаб, и мать до слез переживала за его здоровье. Беспрестанные кочевья по чужим домам, при росте семьи, да и цен на жилье, все больше тяготили Марию Александровну… Откладывать деньги на покупку дома с жалованья Ильи Николаевича при такой большой семье было непросто. Помогала хозяйственная жилка, с детства заложенная в ней тетушкой и отцом… Познания же ее в кулинарии, умение шить, перешивать и вязать при огромном трудолюбии обеспечивали семье немалую экономию» [26, с. 40]. Об их нелегких поисках крыши над головой рассказали Е. К. Беспалова и И. Е. Сивопляс: «С осени 1869 года — времени переезда в Симбирск — возраставшая семья Ульяновых проживала на частных квартирах. И, наконец, праведные труды позволили Илье Николаевичу обзавестись собственным углом» [2, с. 231]. Судя по работам этих лениноведов, горемычная чета Ульяновых, гонимая вечной нуждой, то и дело была вынуждена с большими узлами и чемоданами переби- раться из одного мрачного подвального помещения в другое, еще более кошмарное (возможно, что на названных исследователей повлияло долгое созерцание печальной по сюжету картины В. Васнецова «С квартиры на квартиру»).
Данилкин Л. тоже полагает, что Ульяновы испытывали недостаток средств, что их духовное благополучие «не сумело обручиться с материальным. Илья Николаевич был не тот человек, который вывозил семью за границу в парки аттракционов или в Гран-тур по Европе… Домоседство объяснялось постоянной стесненностью в деньгах. На не бог весть какое жалование Илья Николаевич содержал жену, шестерых детей, няню и прислугу. В 1878 году Владимир Ильич заболел малярией, доктора посоветовали вывезти его на лечение в Италию, но денег не было не то что на Италию или на Крым, но даже на вояж к теткам под Казань — надо было покупать дом, и семья осталась летом в городе. Даже и в 1880-е, когда Илья Николаевич предложил однажды старшим детям свозить их в Москву на промышленную выставку, те, ощущая себя сознательными личностями, отказались, понимая, что их семейный бюджет не рассчитан на такого рода путешествия. Единственным туристическим направлением, которое оставалось доступным для Ульяновых, была Казанская губерния» (с. 30). Здесь Л. Данилкин маху дал. Так и кажется, что этот абзац рецензируемой книги о бедных Ульяновых, не имевших якобы возможности совершать вояжи в Европу, написал не профессиональный историк, а современный крупный бизнесмен.
Во-первых, во второй половине XIX — начале XX века в России еще не упрочилась традиция совершения семейных экскурсионных и лечебных поездок по Европе. Обходились домашними докторами. Во-вторых, было бы ошибочным причислять супругов Ульяновых к разряду вечно нуждающихся. В 1995 году «Историко-культурный центр В. И. Ленина» проинформировал любопытствующих о жаловании Ильи Николаевича: «В 1874 году он стал директором народных училищ, и зарплата его повысилась. Она составила всего с учетом разрядных и пенсии 3500 рублей в год» [8, с. 24]. Сумма весьма приличная. И, разумеется, на такие деньги Ульяновы могли бы лечить своего сына Володю в любой из европейских стран. Просто не было необходимости направлять туда такого крепыша. (Да и не худо припомнить, что в последующие годы дети Ильи Николаевича — Владимир, Дмитрий, Анна, Мария — подолгу, не испытывая серьезных материальных стеснений, жили в
Германии, Австрии, Франции, Польше, Италии. И пользовались услугами иностранных врачей. А источником их доходов — едва ли не единственным — длительное время являлась пенсия Марии Александровны, которую она получала за умершего мужа.)
Данилкина Л., как и его предшественников — советских лениноведов, умиляет скромность и простота дома, который Ульяновы купили в 1878 году. «Городской коттедж средних размеров, — записал он свои впечатления после посещения этой музейной обители, — точно не больше ста квадратов… С улицы дом кажется одноэтажным, зато со двора в нем появляется уютная антресоль — где располагались как раз три детские комнатки с огорчительно низкими потолками. Из экспонатов — рояль, гардины, наволочки с вышивками, географические карты, лампы, зеркала, сундук няни, переплетенные литературные журналы и собрания сочинений «революционных демократов» (с. 17).
Данилкин Л. предположил, что площадь дома Ульяновых, в котором проживала эта семья в 1878—1887 гг., исчисляется 100 квадратными метрами. На наш взгляд, она больше как минимум в 2—2,5 раза. К сожалению, размеры этого домашнего строения в официальной литературе не указываются. Также военной тайной до сих пор остается величина окружающей природно-хозяйственной среды — земельного участка, приобретенного, как и дом, на имя Марии Александровны. Усадьба, по информации краеведов, включала в себя большой двор, «поросший травой. Вдоль заборов росли деревья, кусты бузины, три вяза высились в дальнем углу. Стояли хозяйственные постройки: дровяник, сарай, конюшня, два погреба. Над сараем и конюшней — сеновал. Был еще во дворе бревенчатый флигель в три комнатки. Возле мазанка, там размещалась летняя кухня и колодец с деревянной помпой и желобом, по которому вода стекала в деревянный чан.
Ко двору примыкал большой фруктовый сад. Он был молодым, восьмилетним, яблони еще только-только начинали плодоносить. Крыжовник, вишня, малина, сирень. А в конце тенистой аллеи, тянувшейся посередине сада, выросла одинокая осинка. Был в саду и цветник. Неподалеку от него уютно примостилась тесовая беседка с железной крышей. Четыре узенькие аллеи обрамляли сад вдоль заборов, обсаженных кустами акаций» [27, с. 134—135]. Это была типичная дворянская усадьба. А. С. Пушкин назвал бы ее «прелестным уголком», приютом труда, спокойствия и вдохновенья. Почти восемь лет протекала здесь жизнь Ульяновых безмятежно, счастливо. (Иметь такие «скромные» бытовые условия, конечно, не мечтало подавляющее большинство симбирян в конце XIX века. И сейчас оно тоже не предается таким утопическим фантазиям.)
Дети Ильи Николаевича и Марии Александровны, поселившись в столь просторном доме, окруженном великолепием разнообразной живой природы, могли там играть вволю. Советские лениноведы с удовольствием рассказывали об их первых учебных занятиях, развлечениях и проказах. Например, Е. Вечтомова была очарована тем, как веселились они, швыряя обувь:
«— А вот и неправда! Калоши могут летать! — пятилетний Володя захохотал и ловко сбросил со своей ноги калошу так, что она полетела в гостиную.
— Моя дальше! — всполошилась Оля, отправляя туда же свою.
— Мама и папа придут — достанется вам. Варвара Григорьевна только что пол вымыла, — пытается утихомирить малышей Саша.
Но удержать их было уже невозможно. В столовую летели калоши, боты, валенки, задевая недавно обитый яркой материей диван, пачкая медово блестящий пол. Ребята не заметили, как вошла мать.
Мария Александровна подняла брови. Как бы между прочим, сняв шубку и повесив ее в прихожей, негромко, сердясь, сказала:
— Пустяки такие делаете. Приберите скорее. Это ненужное… — и чуть поморщилась. Восторг нелепой игры пропал. Потушен. Остался стыд» [3, с. 73].
Трофимова Ж. пленило еще одно потрясающее, самозабвенное и оригинальное развлечение детей Ульяновых, которое именовалось у них игрой в «брыкаску» (ее изобрел будущий вождь мировой революции и всего прогрессивного человечества): «Она проходила особенно интересно и весело тогда, когда родителей не было дома. «Брыкаска» — это что-то лохматое, страшное и таинственное, которое с рычанием неожиданно откуда-то появилось в полутемном зале. Это был, конечно, Володя, на четвереньках, в вывернутом наизнанку тулупчике. Игра увлекала неожиданными поворотами и непредсказуемостью, так как от «брыкаски» всего можно было ожидать. Оля и Митя бросались убегать, прятаться под диван или за занавеску, чтобы «брыкаска» не укусила за ногу, но в конце концов вдруг оказывалось, что она добрая и ее можно погладить. Во всех случаях в полумраке поднималась страшная возня, беготня, с грозным рычанием и визгом. Когда же «брыка-ска» начинала выделывать удивительные номера и подплясывать, уже становилось не страшно, и младшие тоже начинали резвиться кто во что горазд» [24, с. 33].
Фактический материал о невинных и совершенно безобидных забавах ульяновской ребятни Е. Вечтомова и Ж. Трофимов почерпнули из опубликованных воспоминаний повзрослевших братьев и сестер В. И. Ленина [28, с. 47]. И вдруг Л. Данилкин дал этим описаниям безвредных потешных потасовок и озорства зловещее истолкование: «Наиболее темпераментный из всех шестерых младших Ульяновых и до поры до времени лишенный возможности канализировать свою энергию в какую-то полезную деятельность, Владимир Ильич представлял собой грозную силу, с которой не в состоянии были справиться родители и которая вызывала у его братьев и сестер приступы отчаяния. Его манера швыряться калошами по живым мишеням запомнилась жертвам на десятилетия. Идея, дождавшись, пока родители в темное время суток уйдут из дома, изображать «брыка-ску» — закутываться с головой в меховой тулуп, прятаться под диван в темной комнате и хватать за ноги, кусать и щипать всех, кто попадется, а затем еще и выползать оттуда на четвереньках с диким рычанием — доводила напуганных братьев и сестер скорее до заикания, чем до смеха» (с. 13).
Заключение о наличии у маленького Володи садистских наклонностей может кому-то показаться сенсационным, но нам кажется, что у него нет доказательной базы. Большего внимания заслуживает гипотеза Л. Данилкина о том, что в подростковом возрасте характер этого мальчика изрядно испортился: «С пятнадцатишестнадцати лет… у Владимира Ильича появляется привычка высмеивать собеседников, отвечать «резко и зло»; раньше просто «бойкий и самоуверенный», теперь он становится «задир-чив» и «заносчив»; и даже мать делается мишенью его насмешливости. В итоге сей добронравный принц Гаутама быстро преобразился «в мантикору со скорпионьим жалом и чьей-то откушенной рукой в зубастой пасти» (с. 12). Развивая далее версию о том, что картина абсолютного благополучия взаимоотношений в семье Ульяновых была плодом идеологической заказной фантазии, Л. Данилкин высказывает мысль, которая заслуживает внимания прагматично рассуждающего историка: «Владимир испытывал к отцу что-то вроде подросткового презрения: для него обладатель генеральского чина, титуловавшийся «ваше превосходительство», мог казаться представителем государственной машины насилия, бюрократии, аппарата, того самого, который Ленин впоследствии будет жаждать разбить» (с. 13).
Даже столь робкое предположение о вероятности возникновения тени недовольства у Владимира своим отцом вызвало бы у любого советского историка бурю естественного негодования. Но Л. Данилкин пошел дальше. Сокрушая агиографические (житийные) каноны, он заявляет в коротеньком историографическом экскурсе о тяжелейшем судьбоносном столкновении Ильи Николаевича и будущего творца Великого Октября: «Д. Е. Галковский, проницательный читатель Ленина, подметил, что «в опубликованной переписке нет упоминаний об отце и старшем брате Александре»: возможно «Илья Николаевич умер во время или сразу после очередной ссоры с сыном, и фигура умолчания в переписке объясняется подавленным чувством вины». Это не такое уж голословное предположение: дело в том, что смерть отца совпадает с моментом вступления Владимира в переходный возраст и изменения в его характере фиксируют многие свидетели» (с. 11—12).
Примечательно, что против иконописного изображения молодого Ленина возражает и известный постсоветский историк Д. Волкогонов: «Частые похвалы, подчеркивание родителями и учителями особых способностей, пионерство в учебе исподволь формировали в юноше глубокую внутреннюю самоуверенность, ощущение умственного превосходства над сверстниками. В семье он был «любимчиком», привык всегда находиться в центре внимания и даже почитания, что не могло не наложить определенный отпечаток на складывающийся характер и психологию молодого Ульянова. Как впоследствии не раз отмечали Мартов, Потресов, Валентинов и некоторые другие известные марксисты, Ленин не был тщеславен, но не скрывал своего морального «права» на первенство, в которое он уверовал еще с гимназической скамьи. Уже тогда свое первенство молодой Ульянов считал возможным подтверждать грубым моральным давлением и нетерпимостью к иным взглядам.
Студенческий товарищ Александра Ульянова В. В. Водовозов вспоминал, как после посещения семьи Ульяновых обнаружилось, что близко сойтись с Владимиром он ни в коем случае не может. Его возмущала невыносимая полемическая грубость Ульянова, его безграничная самоуверенность, самомнение, разжигаемое тем, что (уже тогда!) в семье его считали «ге- нием», а окружающие видели в нем непререкаемый авторитет» [4, с. 55].
По нашему мнению, гипотеза Д. Галковского и Л. Данилкина о возможности смерти Ильи Николаевича в связи с его разговором на повышенных тонах с Владимиром не лишена интереса. Но она умозрительна, не подкреплена хотя бы зыбкими свидетельствами симбирян эпохи 80-х годов XIX века. Вместе с тем и утверждения советских историков об умиротворённости и безоблачности отношений И. Н. Ульянова и среднего сына отдают запахом лака. Например, окутан тайной, замалчивается очевидный факт, компрометирующий В. И. Ленина: основатель большевистской партии в течение 35 последних лет своей жизни не нашел времени для посещения могилы своего отца [23, с. 72—77].
Да, у предположения Д. Галковского и Л. Данилкина о возможной причине скоропостижной кончины И. Н. Ульянова отсутствует аргументация. Но столь же бездоказательны заявления советских историков и политиков о том, что Илью Николаевича сжил со света проклятый царский режим. (К слову, тезис о том, что российское самодержавие сгубило Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Левитана и многих других писателей, поэтов, композиторов, художников, ученых, стал неиссякаемым источником для безграничных и бесконечных фантазий коммунистических идеологов.)
«Прогрессивная деятельность Ильи Николаевича, — с немалой долей лукавства повествуют И. Я. Баранов и М. И. Никитин, — противоречила главным политическим установкам царского правительства. И хотя он продвигался по служебной лестнице, неоднократно был отмечен орденами и повышением в чинах, вводимые им новшества вызывали неодобрение со стороны власть имущих… Он болезненно реагировал на усиление политической реакции после убийства Александра II в 1881 году, которая охватила и сферу народного просвещения. Царское правительство старалось отдавать предпочтение церковно-приходским школам, стремилось свести на нет значение народных училищ… Это был жестокий удар по светлым надеждам И. Н. Ульянова и его единомышленников. Для прогрессивных деятелей создалась невероятно тяжелая нравственная и политическая атмосфера» [1, с. 57].
Карамышев А. и вовсе превратил либерально настроенного Илью Николаевича в А. Радищева: «11 ноября 1885 года исполнилось тридцать лет педагогической деятельности И. Н. Ульянова. Ходатайство об оставлении его на службе на очередное пятилетие министерством народного просвещения было отклонено. Илья Николаевич тяжело переживал гонения со стороны правительства. Борьба за прогрессивный путь народного образования, подозрительность и недоверие со стороны министерства и Казанского учебного округа, доносы местных помещиков-крепостников и духовенства, материальная необеспеченность и ряд других ударов подорвали окончательно здоровье Ильи Николаевича и преждевременно свели его в могилу» [9, с. 117—118].
Григорьев Н., один из немногих относительно здравомыслящих советских литераторов-лениноведов, размышляя о самочувствии Ильи Николаевича в последний период жизни, пришел к заключению, что его организм был до предела измотан и изношен. Свой вывод писатель подкрепил отрывком из взволнованной речи Марии Александровны. «Илюша, — обратилась она к своему мужу в один из летних вечеров 1885 года, — скрепя сердце, я примирилась с тем, что, прослужив двадцать пять лет, ты не пожелал выйти на пенсию, а только еще с большей горячностью устремился в свои школьные дела. Но через несколько месяцев, в ноябре, исполняется твоей службе уже тридцать лет! Что у тебя в мыслях? Неужели и дальше намерен служить, отклоняя пенсию? Но ведь это при твоем пошатнувшемся здоровье самоистязание какое-то… Нет, этого я не вынесу!» [51, с. 171—178].
Что следовало сделать Илье Николаевичу? Нам кажется, что он, как любой здравомыслящий человек, должен был уйти на заслуженный отдых (тем паче, что пенсия, полагающаяся действительному статскому советнику, обеспечила бы приличный материальный уровень дальнейшего существования и ему, и всем членам семьи). Однако Илья Николаевич, будучи трудоголиком, решил работать далее, что привело его к печальному концу. Все ясно, как божий день. Но Н. Григорьев, как и все советские историографы Ульяновых, высказал итоговое обязательное безапелляционное заключение: отца Ленина сгубили «циничные и бездушные» царские чиновники [5, с. 190]. Л. Данилкин, отвергая эту версию преждевременной смерти Ильи Николаевича, выдвигает еще одно простое, но убедительное предположение о причине его неожиданной кончины: «Строением черепа — это видно по фотографиям, и младшая сестра об этом пишет — Владимир Ильич весьма походил на отца; и не только черепа. Рост, конституция, большой лоб, «несколько монгольский разрез глаз», картавость, смешение холерического с сангвиническим темпераментов, «зара- зительный, часто до слез» смех, предрасположенность к инсультам; оба умерли примерно от одной и той же болезни практически в одном возрасте» (с. 10).
С уважением и вместе с тем с долей юмора, немыслимой для советского историка, Л. Данилкин говорит о том, что «Ульяновы образца середины 1880-х выглядят как семья из рекламы стирального порошка: лучащиеся счастьем родители шестерых детей — один другого краше, с карманами, набитыми золотыми медалями; свой коттедж, собака, добрая няня; отец, правда, много работает, но зато в генеральском чине, действительный статский советник; мать никуда не отлучается от детей; совместные вылазки в фотоателье и летние поездки в деревню позволяют семье чувствовать себя счастливой» (с. 30). Так продолжалось до 12 января 1886 года — дня кончины Ильи Николаевича, первой трагической даты в жизни Ульяновых. Но не последней.
Неожиданная смерть директора народных училищ, никогда серьезно не болевшего, поначалу квалифицировалась земляками как безвременная. Но через год с небольшим некоторым из них пришлось отказаться от такой оценки. И перемена позиции была вызвана арестом А. Ульянова за подготовку покушения на российского императора Александра III. Смерть Ильи Николаевича признал своевременной, как ни странно, его сын Владимир. Он как-то прямо сказал Н. К. Крупской: «Хорошо, что отец умер до ареста брата, если бы был жив отец, просто не знаю, что и было бы» [12, с. 35]. Трудно представить масштаб драматических переживаний И. Н. Ульянова, если бы он дожил до ужасного дня ареста старшего сына, вставшего на путь террора и жесточайшего насилия.
Советские историки, как и полагалось, пели дифирамбы А. Ульянову. Им нравилось в старшем брате В. И. Ленина все: и внешность, и душа, и характер, и взаимоотношения с окружающими. Расхожим в их исследованиях стало сравнение его жизни с ослепительной вспышкой сгоревшего метеора, которая осветила беспросветный мрак реакционного царствования Александра III. Разве только В. Сутырин дерзнул сказать в 1985 году, что некоторые мемуаристы буржуазного толка подчеркивали суровость и замкнутость Александра Ульянова (разумеется, и этот яркий исследователь, как и полагалось любому обществоведу в СССР, дал достойный отпор гнусным клеветникам, поднявшим руку на выдающегося революционера). Но, по-видимо-му, паршивые пасквилянты все-таки имели от- носительные основания говорить хотя бы о мелких недостатках старшего сына Ильи Николаевича. Сошлемся, например, на воспоминания учительницы В. В. Кашкадамовой, увидевшие свет в 1989 году, когда в советской империи ослабла беспощадная цензура. Будучи близким другом едва ли не всех членов семьи Ульяновых, она в доброжелательной манере зафиксировала сцены общения отца со своими сыновьями: «За самоваром Илья Николаевич острил, шутил, много смеялся и совсем не говорил о деле… он больше всего любил пикироваться с Володей. Шутя, ругал гимназию, гимназическое преподавание, очень остро высмеивал преподавателей. Володя всегда очень удачно парировал отцовские удары и, в свою очередь, начинал издеваться над народной школой, иногда умея задеть отца за живое… Александр Ильич приходил к столу всегда с опозданием, и его долго приходилось звать сверху, где он жил и работал… Вообще Александр всегда казался замкнутым и холодным» [11, с. 271].
Так что накануне краха коммунистической диктатуры в СССР опубликовали мемуары, в которых содержался прозрачный намек на то, что все-таки Александр Ильич не был абсолютно безупречной личностью. Тем любопытнее прочитать абзацы книги Л. Данилкина, посвященные старшему брату Ленина. Увы, автор «Пан-тократора солнечных пылинок» в его оценке не проявил оригинальности мышления и уныло повторил азы советской историографии. Типичный фанатик-террорист рисуется им в романтичносентиментальных аллилуйских красках: «Александр Ильич имел свойство вызывать к себе всеобщую искреннюю приязнь, и известие о том, что он собирался превратить первое лицо государства в груду кровавых ошметков, и последовавшая затем жестокая казнь стали для герметично компактного Симбирска чем-то… непостижимым, трагическим и глубоко потрясшим общество событием. Семья Ульяновых, как водится, начала собирать, что называется, количество просмотров — но не комментарии негативного характера; Марии Александровне скорее сочувствовали. Единственным, кажется, кто отнесся к этому идеальному во всех отношениях юноше со злобным скепсисом, был царь, на которого Александр Ильич готовил покушение» (с. 42).
В порыве вдохновения и упоительного преклонения перед созданным им иконописным образом Александра Ульянова Л. Данилкин даже отважился сопоставить нравственные качества сыновей Ильи Николаевича: «Вероятно, что Алек- сандр Ильич и Владимир Ильич стали бы врагами, и Ленину пришлось бы «перемолоть» придающего слишком много значения вопросам морали Ульянова. В целом сравнения этих двоих обычно были не в пользу младшего брата; у некоторых Владимир Ильич будет вызывать ненависть и отвращение как раз по контрасту» (с. 43).
На наш взгляд, вопрос о том, кто из братьев Ульяновых — сюда можно присовокупить еще и младшего Дмитрия — лучше, не заслуживает внимания. Ответ на него прост: хрен редьки не слаще. Всем им был сладок и приятен террор, который определяется в словаре С. И. Ожегова как «физическое насилие, вплоть до физического уничтожения, по отношению к политическим противникам» [17, с. 691]. Поэтому у Л. Данилкина нет никаких оснований для утверждения о том, что Александр Ульянов продемонстрировал черты «благородного» джентльмена (с. 42). Главную причину возведения на пьедестал террористов всех мастей (в том числе и русских революционеров) точнее всех обозначил А. Солженицын: «Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейству и нужную долгую твердость злодею. Та общественная теория, которая помогает ему перед собой и перед другими обелять свои поступки и слышать не укоры, не проклятия, а хвалы и почет. Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы и большевики — равенством, братством, счастьем будущих поколений» [19, с. 128].
Дабы как-то облагородить кровавый замысел А. Ульянова, Л. Данилкин унижает его главного антипода и политического противника. Не мудрствуя лукаво, он швыряет в Александра III тройку увесистых комков грязи. Во-первых, выдвигает простенький тезис: все окружающие любили старшего сына Ильи Николаевича, только злобный царь пылал ненавистью к герою-революционеру, борцу за народное счастье (возникает естественный вопрос о том, как же должен император отнестись к человеку, который четыре месяца готовил на него покушение). Во-вторых, Л. Данилкин с возмущением пишет, что «Александр III сам отклонил прошение Александра Ильича о помиловании» (с. 42). В. Сутырин рассказывает об этом эпизоде более достоверно: поскольку в обращении к царю не содержалось даже намека на раскаяние, то этот документ чиновники не передали адресату [20, с. 246]. В-третьих, Л. Данилкин явно искажает истину, утверждая, что симбиряне сохранили симпатии к семье Ульяновых и после за- ключения Александра в тюрьму. Никаких фактов в пользу такого толкования событий пока еще никто не привел.
Мы считаем, что наиболее успешно прокомментировала последствия драмы 1 марта 1887 года Н. К. Крупская. «Весть об аресте Александра Ильича, — писала она в своих воспоминаниях, — получила в Симбирске учительница Кашкадамова… Передавать эту ужасную весть матери пришлось Владимиру. Он видел ее изменившееся лицо. Она собралась в тот же день в Питер. В то время железных дорог в Симбирске не было. Надо было ехать до Сызрани на лошадях, стоило это дорого, и обыкновенно ехавшие отыскивали себе попутчиков, но весть об аресте Александра уже разнеслась по Симбирску, и никто не хотел ехать с его матерью, которую перед тем все нахваливали как жену и вдову директора. От семьи Ульяновых отшатнулись все, кто раньше у них бывал, все либеральное «общество» [12, с. 34]. Так что правы были те историки, которые подчеркивали факт вынужденного стремительного бегства семьи Ульяновых из Симбирска после казни Александра Ильича, запечатлевшегося в глазах и сознании широкой публики в качестве государственного преступника и «цареубийцы». Например, Л. Кунецкая и К. Машкатова сделали акцент на том, что «дом Ульяновых окружило словно выжженное пространство» [13, с. 11], а Б. Яроцкий развил эту мысль, подкрепив ее аргументами, заслуживающими внимания: «Жизнь в Симбирске становилась невыносимой. После казни Александра реакционное чиновничество Симбирска отвернулось от Ульяновых. Многие знакомые, называвшие себя друзьями покойного Ильи Николаевича, начали относиться к его семье с подозрением… Ульяновых попрекали не только Александром, но и Анной, которая, как и старший брат, была арестована по делу покушения на царя» [32, с. 14].
Кажется, уж сколько было написано о светлой, замечательной, ну просто образцовой дружбе Александра и Владимира Ульяновых. Но даже в советскую эпоху вождь большевистской партии ни разу не вспомнил — ни устно, ни письменно — не только об отце, но и о старшем брате. Сей казус было поручено объяснить группе подручных правящей партии, т. е. мастерам политико-художественного слова. Писатель и историк Е. Яковлев растолковал эту странность поведения лидера РКП(б) следующим образом: «Еще Горький заметил, что Ленин умел молчать о тайных бурях своей души. Откройте 55-томное собрание сочинений В. И. Ле- нина. Вы не найдете там ни слова о старшем брате — ни в одной статье, работе, ни в одном выступлении. Обвиняя царизм, не вспоминал вслух Александра Ильича, размышляя над стратегией и тактикой революционной борьбы, говоря, наконец, о мужестве революционера, никогда не приводил в пример брата. Слишком велика была эта боль, чтобы поминать о ней от случая к случаю. Слишком суров и обширен был счет революции, чтобы подкреплять его гибелью одного человека, хоть и брата, трагедий одной семьи, хоть и твоей» [31, с. 230].
Искусным адвокатом основателя первого в мире социалистического государства стал известный поэт Н. Доризо. В проникновенных строках своей лирико-идеологической поэмы «В России Ленин родился» он объяснил простым людям нашей страны, почему Владимир Ильич похоронил в устах (но не в сердце и памяти!) имя любимого старшего брата:
Да,
Вождь высоких слов о брате
С больших трибун не говорил.
И ничего здесь нету странного,
Что он молчал о горе том, Молчал о подвиге
Ульянова,
Как о себе
Молчал о нем,
Молчал,
Переживал утрату…
Но если Ленин жив сейчас,
Его любовь к герою-брату
Должна живою быть для нас!
…Два брата,
Как два разных века,
И все же нет родства родней! [7, с. 24—25].
Данилкин Л., как и советские историки, не замечает, что А. Ульянову не хватало доброты, элементарной отзывчивости. Сердце у него, как у всех фанатиков-революционеров, увы, не было золотым. Сентиментальностью явно не страдал. В отличие от своей сестры Анны, он не приезжал из Петербурга в Симбирск на рождественские каникулы. Не проявил Александр чуткости и в январские дни 1886 года, когда умер его отец. Конечно, он никак не мог прибыть ко дню похорон, но никто ему не мешал приехать несколькими днями позднее, чтобы разделить горе с матерью, братьями и сестрами. Однако Александр появился в Симбирске только в нача- ле летних каникул, что вызвало пересуды и кривотолки земляков [18, с. 81].
Данилкин Л. в оценке А. Ульянова не продвинулся далее отечественных историков и краеведов. Это досадно. Но в целом автор рецензируемой книги продемонстрировал новизну мышления. Он категорически настроен против сложившегося в период существования СССР культа семьи Ульяновых. Лишний раз Л. Данилкин подтвердил это кратким отзывом о Ленинском мемориале.
Столь внушительное строение являлось предметом неподдельного восхищения всех советских исследователей. Как же! Его открыл 16 апреля 1970 года сам Л. И. Брежнев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, удивительный человек, овеянный славой, награжденный немыслимым количеством орденов и медалей. Под аккомпанемент одобрительных рукоплесканий он сказал в своем историческо-провидческом докладе: «Ленинский мемориал, воздвигнутый здесь, на месте рождения Владимира Ильича Ленина, достойно увековечивает его память. Это прекрасное сооружение — подлинное произведение искусства. Есть все основания от души поздравить архитекторов и строителей, скульпторов и художников с успешным завершением этого замечательного памятника нашему учителю и вождю» [16, с. 133].
Посещаемость Ленинского мемориала была просто колоссальной. Только в 1970—1979 гг. в нем побывало более семи миллионов человек. Что они видели и какие чувства испытывали? Об этом нам поведала в книге «Край Ильича» А. И. Томуль. В ее рассказе наиболее любопытна та часть, которая посвящена музею В. И. Ленина, занимающему южную часть грандиозного здания Мемориала: «Его экспозиционный зал наряден и торжественно строг. Интересно и выразительно выполнено документально-художественное оформление помещения. Первое, с чем встречается посетитель, войдя в музей, это диорама старого Симбирска… На стенах зала — скульптурные рельефы. Монументальное панно из разноцветной смальты посвящено теме освобождения Симбирска от белогвардейцев частями прославленной Железной Дивизии.
В экспозиции представлены оригинальные скульптурные произведения: «Братья» (Александр и Владимир Ульяновы), «Булыжник — орудие пролетариата», «Движущие силы революции», «В. И. Ленин, Я. М. Свердлов, Ф. Э. Дзержинский»…
Документальная экспозиция филиала насчитывает более четырех тысяч экспонатов, расска- зывающих о жизни и неутомимой, напряженной деятельности В. И. Ленина, его подвиге во имя блага нашей страны и всех народов мира.
Глубокий след в памяти посетителей оставляют материалы, свидетельствующие о непримиримой борьбе Ленина с народниками, меньшевиками, эсерами, всякого рода оппортунистами в международном рабочем движении. Неизгладимое впечатление производят фотографии, запечатлевшие Владимира Ильича на съездах партии, Советов, конгрессах Коминтерна.
Венцом экспозиции является Ленинский торжественный зал. Его стены оформлены мозаикой. В центре зала высится беломраморное изваяние вождя. Образ Ильича прост, человечен. Мудрый взор Ленина обращен к людям, которые приходят сюда со светлой памятью о величайшем сыне человечества.
Посещение Ленинского мемориала, знакомство с его экспозицией оставляют у людей чувство восхищения, радости и гордости за свою страну, за наш народ, давший миру бессмертный гений Ленина» [22, с. 38—39].
…После открытия Ленинского мемориала прошло чуть менее пяти десятков лет. Ныне громадное здание, некогда заполнявшееся шумными, радостными, разноязыкими толпами экскурсантов, поражает печальной тишиной и непривычным малолюдьем. Года три-четыре тому назад этот феномен — диво советского архитектурного мастерства внимательно осмотрел Л. Данилкин. Разочарованию его не было предела. Вот что он записал в свой блокнот по горячим следам знакомства с этим популярным монументальным сооружением социалистической эпохи: «Ключевую позицию в городе занимает здание, которое расположено на высоком правом берегу; именно на него возложена функция представлять Симбирск советским Вифлеемом на Волге — Иордане — и не похоже, что в ближайшее время найдется стихия, которая окажется в состоянии уничтожить эту твердыню. Ленинский мемориал, ради которого снесли «надволжскую» улицу Стрелецкую, где родился Владимир Ильич, представляет собой плод запретной любви Чаушеску и Фидия: на выстеленной скользкими мраморными плитами площадке приподнят на колоннах-сваях сплющенный сверху и снизу бетонно-мраморный куб с квадратными навершиями. Вдвое-втрое больше храма Зевса в Олимпии, мемориал должен внушать величие и трепет, как городская доминанта. Многие уродливые здания со временем приобретают статус «иконических», но у мемориала, эрзац-купола которого выглядят особенно безобразно, едва ли есть шансы попасть в их разряд, даже если все остальные постройки на планете будут разрушены атомной бомбардировкой; да и в качестве памятника позднесоветскому маразму и творческому бесплодию он слишком компромиссный и эклектично-обыденный; так может выглядеть и АЭС, и Дом пионеров, и НИИ, и Дворец Съездов правящей партии, и увеличенная заправочная станция» (с. 20).
В итоге Л. Данилкин назвал внешние архитектурные контуры «величественного» здания «безобразными». Но с еще большим презрением он отозвался о его «утробе»: «Внутри мемориала неуютно, как в крематории: помимо дежурной диорамы Стрелецкой улицы, здесь покоится электрифицированная карта «Триумфальное шествие советской власти», созданная из кусочков того же рубинового стекла, что и звезды кремлевских башен. Пустой «Торжественный зал» с геометрическим мозаичным узором из цветной смальты укомплектован, впрочем, огромной статуей из уральского мрамора: высота этой церкви-в-церкви — 17 метров — «по замыслу архитекторов символизирует величие революции 1917 года»; а белизна кумира — надо полагать, непогрешимость того, кому следует возносить здесь молитвы» (с. 21).
Итак, глава «Симбирск. 1870—1887» в книге «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» стала значительным шагом в изучении роли семьи Ульяновых в процессе зарождения коммунистической диктатуры в России. И хотя Л. Данилкин не дал нам ответа на вопрос, как же это такая милая симпатичная родительская чета (Илья Николаевич + Мария Александровна) сумела взрастить пятерых беспощадных террористов (Александра, Владимира, Анну, Дмитрия, Марию), мы должны быть благодарны ему: он впервые в отечественной историографии стряхнул тоталитарные сталинские оковы с освещения столь трудной и важной темы.
( Продолжение следует )
Список литературы Трагедия семьи Ульяновых. Рецензия на книгу Л. Данилкина ≪Ленин. пантократор солнечных пылинок≫ (М. : Изд-во ≪Молодая гвардия≫, 2017. 783 с.)
- Баранов И. Я. Семья Ульяновых. Юность Ленина / И. Я. Баранов, М. И. Никитин // Родной город Ильича. — Ульяновск, 1972.
- Беспалова Е. К. Прогулки по Московской / Е. К. Беспалова, И. Е. Сивопляс. — Ульяновск, 2017.
- Вечтомова Е. Повесть о матери / Е. Вечтомова. — М., 1978.
- Волкогонов Д. Ленин. Политический портрет / Д. Волкогонов. — Кн. 1. — М., 1994.
- Григорьев Н. Отец / Н. Григорьев. — М., 1969.
- Данилов В. Д. История Чувашии / В. Д. Данилов, Б. И. Павлов. — Чебоксары, 2003.
- Доризо Н. Избранное / Н. Доризо. — Т. 2. Поэмы. — М., 1976.
- Жизнь В. И. Ленина: вопросы и ответы. — Ульяновск, 1995.
- Карамышев А. Л. Ульянов — выдающийся русский педагог и просветитель / А. Л. Карамышев // Известен всей России. — Саратов, 1974.
- Карамышев А. Л. От редактора / А. Л. Карамышев // И. Н. Ульянов в воспоминаниях современников. — М., 1989.
- Кашкадамова В. В. Семейство В. И. Ульянова-Ленина в Симбирске / В. В. Кашкадамова // Ульянов И. Н. в воспоминаниях современников. — М., 1989.
- Крупская Н. К. О Ленине : сб. статей и выступлений / Н. К. Крупская. — М., 1971.
- Кунецкая Л. Мария Ульянова / Л. Кунецкая, К. Маштакова. — М., 1979.
- Ленин Владимир Ильич. Краткая биография. — М., 1955.
- Молева А. Н. Воспитание в труде. Учение / А. Н. Молева // Семья Ульяновых. — 1969.
- Наш край (1941—1975 гг.). Документы и материалы. — Ульяновск, 1975.
- Ожегов А. И. Словарь русского языка / А. И. Ожегов. — М., 1986.
- Осипов В. Река рождается ручьями / В. Осипов. — М., 1971.
- Солженицын А. И. Малое собрание сочинений / А. И. Солженицын. — Т. 5. — М., 1991.
- Сутырин В. Александр Ульянов / В. Сутырин // Семья Ульяновых. — М., 1985.
- Томуль А. И. Сердечная привязанность, тесная дружба / А. И. Томуль // Семья Ульяновых. — Ульяновск, 1969.
- Томуль А. И. Ленинские места Ульяновска / А. И. Томуль // Край Ильича. — Саратов, 1985.
- Точеный Д. С. Скелет в шкафу Ульяновых / Д. С. Точеный, Н. Г. Точеная // История в подробностях. — М., 2017. — № 3. — Май-июнь.
- Трофимов Ж. Великое начало / Ж. Трофимов. — М., 1990.
- Трофимов Ж. Старший брат Ильича / Ж. Трофимов. — М., 1988.
- Трофимов Ж. Мария Александровна Ульянова / Ж. Трофимов. — Ульяновск, 1996.
- Трофимов Ж. Илья Николаевич Ульянов / Ж. Трофимов, Ж. Миндубаев. — М., 1990.
- Ульянов Д. И. Очерки разных лет. Воспоминания. Переписка. Статьи / Д. И. Ульянов. — М., 1984.
- Чинарова О. А. Приезд в Симбирск / О. А. Чинарова // Историческое краеведение. — Ульяновск, 2000.
- Экштут С. Почему наука боится Ленина? / С. Экштут // Родина. — М., 2016. — № 11.
- Яковлев Е. Жизни первая треть / Е. Яковлев. — М., 1985.
- Яроцкий Б. Дмитрий Ульянов / Б. Яроцкий. — М., 1989.