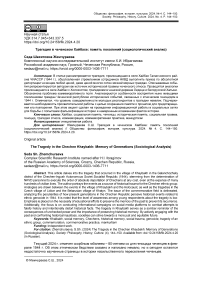Трагедия в чеченском Хайбахе: память поколений (социологический анализ)
Автор: Жемчураева С.Ш.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается трагедия, произошедшая в селе Хайбах Галанчожского района ЧИАССР (1944 г.), обусловленная стремлением сотрудников НКВД выполнить приказ по абсолютной депортации чеченцев любой ценой, даже ценой многих сотен жизней мирных граждан. Описываемые события репрезентируются автором как источник исторической травмы чеченского этноса. Проводятся аналогии произошедшего в селе Хайбах с Холокостом, трагедиями в чешской деревне Лидице и белорусской Хатыни. Обозначена проблема коммеморативного поля. Анализируются особенности восприятия ныне живущими поколениями граждан Чеченской республики исторических событий, связанных с этническим геноцидом в 1944 г. Отмечается, что уровень осведомленности молодых респондентов о трагедии невелик. Подчеркивается необходимость просветительской работы с целью сохранения памяти о прошлом для предотвращения его повторения. При этом акцент сделан на проведении информационной работы в социальных сетях для борьбы с попытками фальсификации истории и намеренным искажением фактов истории.
Хайбах, социальная память, чеченцы, историческая память, социальная травма, геноцид, трагедия этноса, коммеморации, коммеморативная практика, манкуртизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149145003
IDR: 149145003 | УДК: 314.7.045+343.337.5 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.20
Текст научной статьи Трагедия в чеченском Хайбахе: память поколений (социологический анализ)
Комплексный научно-исследовательский институт имени Х.И. Ибрагимова Российской академии наук, Грозный, Чеченская Республика, Россия, ,
of the Russian Academy of Sciences, Grozny, Chechen Republic, Russia, ,
Цель данной работы – социологический анализ восприятия трагедии в селении Хайбах современными чеченцами в ракурсе конструирования исторической памяти, а также определение роли и места акта геноцида в коммеморативном и медийном пространстве Чечни, России и мира.
Объективное и беспристрастное оценивание исторических событий учеными имеет непреходящее значение независимо от того, какого бы периода и места человеческого развития оно не касалось. Вместе с тем в исследованиях такого рода ключевую роль играют коллективные воспоминания людей, живших в конкретную эпоху, ставших так или иначе очевидцами, участниками, свидетелями исторических процессов и значимых событий для этносов и народов. Память и эмоции людей, связанные с вехами истории, способны служить мостом между прошлым, настоящим и будущим, если отнестись к ним с вниманием и уважением. Одним из проявлений такого отношения является практика коммемораций.
XX в. стал временем множества социально-культурных потрясений, имеющих следствия в наши дни и представляющих научный интерес для дискуссий. Актуализация внимания к прошлому в значительной мере обусловлена постепенным уходом из жизни свидетелей и непосредственных участников исторических событий XX в., а вместе с ними и «ускользающей» возможностью получения сведений из нарративов о пережитых потрясениях, в том числе о геноциде чеченцев в 1944 г., трагедии в Хайбахе. Свидетельства произошедшего ни при каких обстоятельствах не должны быть преданы тихому забвению.
Трагедия в селении Хайбах остается серьезным основанием для сохранения боли чеченского этноса и в настоящее время. Жуткий прецедент, созданный в 1944 г. органами НКВД, унесший жизни более 700 человек, в течение длительного времени оставался засекреченным в связи с дискредитацией советской власти периода Великой Отечественной войны. До сих пор тема непосредственных жертв сталинского режима в контексте переселения народов в 1944 г. остается эмоционально нагруженной.
Осмысление факторов формирования и структуризации исторической памяти чеченцев и, в частности, современного восприятия ими факта геноцида этноса основано на социологических концепциях.
О социальных и культурных травмах как общественных феноменах известно из работ П. Штомпки (Штомпка, 2001). Духовные, социокультурные последствия пережитых этносом травм обнаруживаются в общественном сознании и исторической памяти народа в виде деструктивных отголосков. Трагичные события геноцида способны нанести существенный эмоциональный урон социуму на многие годы и даже века. Изучение исторических травм чеченского общества и их влияние на современную жизнь этноса является актуальной, но мало изученной проблемой социологического знания.
Ж.Т. Тощенко, рассуждая о деформирующем эффекте травмы общества, пишет: «Реальный ход исторического процесса показал, что здесь нет линейности: современный мир стал свидетелем регресса, архаизации, турбулентности» (Тощенко, 2017: 17). Вводя в научный оборот понятие «общество травмы», исследователь акцентирует внимание не на факторах, ставших дестабилизирующими для общества, а на очевидных результатах влияния травм, рассматриваемых в комплексе.
Для чеченского этноса последние два столетия ознаменовались затяжными войнами, геноцидом, миграциями, потрясениями, связанными не только с человеческими судьбами, но и с культурной ментальностью народа. Под угрозой не раз оказывались фундаментальные основы его этнической и конфессиональной идентичности.
Социокультурные трансформации чеченского общества, в особенности в последние десятилетия, актуализируют исследование факторов, повлиявших на его развитие или регресс, выявление тенденций и закономерностей эволюции. Важным является обнаружение взаимосвязей и зависимостей современных процессов, тормозящих прогресс и созидание социума, с конкретными историческими фактами и социокультурными травмами этноса.
Коммеморативные практики в свою очередь вызывают научный интерес с точки зрения материальной составляющей этнической памяти. Непрерывная связь с историческим прошлым обеспечивается в том числе благодаря установке памятников, мемориальных досок, переименованию улиц и других атрибутов.
Вторая мировая война представила миру примеры невиданной трагедии народов, послужившие свидетельством того, что конфликты такого рода не только пробуждают в людях мужество и героизм, но и могут спровоцировать проявления диких зверств и масштабные человеческие жертвы. Так, миру известна величайшая этнополитическая катастрофа, связанная с Холокостом, истреблением и преследованием евреев. Что касается иных трагедий, уместно вспомнить события, произошедшие в белорусской деревне Хатынь 22 марта 1943 г. Она была уничтожена, и в огне погибли 149 жителей, в том числе 75 детей. По воле судьбы выжить удалось только одному человеку – Иосифу Каминскому, но сын его погиб. Впоследствии был возведен мемориальный комплекс на месте трагедии в виде скульптуры, воспроизводящей образы насилия и бес-силия1. Хатынь сегодня стала показателем внимательного отношения к этнической памяти, являющейся серьезным фундаментом национальной идентичности.
Еще один чудовищный акт массового физического уничтожения людей зафиксирован 10 июня 1942 г., когда фашистами был полностью уничтожен чешский посёлок Лидице. Мужчин расстреляли, а женщин и детей отправили в концентрационные лагеря и лагеря смерти. Для сохранения памяти о человеческой жестокости в поколениях на месте трагедии был возведен уникальный мемориальный комплекс, визуализирующий дикое лицо фашизма.
Что касается исторической памяти чеченского этноса, сформировавшейся в контексте неоднозначных, противоречивых и сложных социальных процессов, гуманитарных катастроф чрезвычайного масштаба, отметим, что величайшим потрясением в коллективном сознании чеченцев остаются события в с. Хайбах Галанчожского района ЧИАССР. В феврале 1944 г. в колхозе им. Л. Берии данного селения были заживо сожжены более 700 человек. Страшное преступление, в отличие от упомянутых нами до этого (Хатынь, Лидице), было совершено не фашистами, а по указанию руководства советского НКВД. Еще одним обстоятельством, разнящим эти события, является несопоставимость количества погибших. Подобная констатация может представляться не вполне корректной, ведь жизнь каждого человека бесценна, независимо от того, у скольких людей она была одновременно насильственно отнята, но масштабы трагедии поражают. В ходе осуществляемого выселения чеченцев с исконных мест их проживания 23 февраля 1944 г. «нетранспортабельная» часть населения, в том числе больные люди, старики, беременные женщины и дети, проживавшие на тот момент в с. Хайбах, не смогли бы спуститься с гор, поскольку ответственные за переселение не подготовили необходимых транспортных средств, и тем самым могли стать причиной срыва плана переселения, поэтому были физически уничтожены. Запланированное время для полного заполнения транспорта людьми заканчивалось, а около шести тысяч горцев оставались в населенных пунктах района. Погодные условия, связанные с морозами, снегопадом, а также бездорожье не позволяли выполнить приказ Л. Берии вовремя. «Выходом» из сложившейся ситуации стало сожжение заживо и расстрел «лишних» людей в с. Хайбах Галанчожского района ЧИАССР.
Достоверно подтверждены факты утопления людей в озере Кезеной-Ам, расстрела больных в Урус-Мартановской районной больнице, которых впоследствии закопали там же, во дворе лечебного учреждения. Подобные вопиющие преступления, если не назвать это глумлением над человечностью, были совершены также в Итум-Калинском районе, в Малхисте, в Ножай-Юртов-ском районе.
В современной отечественной историографии насильственная репатриация чеченцев в 1944 г., как пишут исследователи (Козлов и др., 2016: 16), рассматривается весьма узко. Причины поголовного этнического перемещения сложно понять. По мнению В.А. Тишкова, «даже трудно объяснить какими-либо мотивами, кроме как безумными геополитическими фантазиями “вождя народов” или его “маниакальной подозрительностью”» (Тишков, 1995: 24). В этом контексте очевидна потребность в междисциплинарном подходе к исследованию проблем насильственной миграции чеченцев, ее причин и социокультурных, духовных, социально-политических и иных последствий.
В числе первых лиц, заинтересовавшихся произошедшим в Хайбахе, был Степан Савельевич Кашурко, возглавлявший работу поискового центра «Подвиг» Международного союза ветеранов войн и вооруженных сил. Он лично занялся расследованием преступления в чеченском селе в 1990 г. В советский период события в данном населенном пункте держались под строгим секретом. Информация о произошедшем впервые появилась в связи с обнаружением останков кавалеристов, погибших 12 марта 1943 г. при выполнении особого задания генерала К. Рокоссовского. Среди вещей одного из них был обнаружен смертный медальон, газеты и фотографии, письмо матери. Адрес на последнем значился как: Хайбах, Галанчожский район, Начхоевский сельсовет. Погибшим оказался командир взвода Бексултан Газоев. После сообщения о герое в ЧИАССР неожиданностью для многих стал ответ из Грозного о том, что такого населенного пункта не существует. Данный факт послужил отправной точкой для разбирательств.
Спустя 46 лет после насильственной миграции чеченцев – 26 апреля 1991 г. – был принят закон Закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов»2. В преамбуле его впервые в советской законодательной практике было отмечено, что эти народы подвергались «геноциду и клеветническим нападкам». В тексте констатируется, что «репрессивные акты против этих народов признаны незаконными и преступными»1.
Пункт 15 резолюции Европейского парламента от 26 февраля 2004 г. гласит: «Депортация всего чеченского народа в Среднюю Азию 23 февраля 1944 г. по приказу Сталина является актом геноцида в соответствии с определением Четвертой Гаагской Конвенции от 1907 г. и Конвенции по предотвращению и недопущению преступлений геноцида, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 г.»2. Это – еще одно подтверждение того, что сам акт насильственного переселения чеченцев и связанные с ним вопиющие преступления советской власти имели исключительно разрушительный характер.
В результате событий 1944 г. чеченский этнос понес колоссальные человеческие, материальные, духовные потери. Серьезным потрясением, в значительной степени усиленным голодом, холодом и множеством лишений, было обрушение традиционного уклада жизни, пронизанного конкретными элементами системы строгих условностей и запретов. Обстоятельства, в которые были «погружены» люди, стали антиподами фундаментальным уникальным принципам мироустройства чеченцев: отношения к женщине, старшим, мертвым. Сюда же можно отнести и сакральное восприятие земли предков, являвшейся не только кормилицей этноса, но и усыпальницей для многих поколений. Женщинам негде было укрыться, старшие были унижены и оказались на одном уровне с другими, мертвые – оставлены без соблюдения ритуалов, соответствующих религии и адатам (за исключением тех умерших, трупы которых родным удавалось скрывать в дороге).
Известными и не подвергающимися сомнениям фактами самого процесса массового выселения, основанными на работах историков, а также достоверных свидетельствах очевидцев (выселение было поголовным и коснулось каждой семьи чеченцев) являются следующие. Люди, плотно погруженные в товарные (не отапливаемые в мороз) вагоны, были лишены пищи и воды сутками, неделями. Длительное пребывание в антисанитарных условиях без какой-либо помощи стало причиной массовых заболеваний уже в дороге. От тифа, по однозначному свидетельству выживших, умерло до половины переселенцев. Таковы лишь некоторые краткие описательные фрагменты самого акта выселения мирно живших в своих домах чеченцев в 1944 г.
Вместе с тем анализ эмпирических данных, полученных в ходе социологического исследования (2021 г.), посвященного исследованию восприятия депортации 1944 г. ныне живущими чеченцами, показывает недостаточное знание о случившемся со стороны современных представителей этноса. С целью определения уровня осведомленности об исследуемых событиях респондентам был задан вопрос: «Известно ли Вам о трагедии в с. Хайбах Галанчожского района?»3. Как оказалось, большинство опрошенных знают о трагедии (86 %), но есть и такие, которые впервые о ней услышали – к этой группе были отнесены 6 % участников исследования; затруднились ответить на поставленный вопрос 8 % респондентов. О событиях в Хайбахе преимущественно не знают девушки в возрасте 15–19 лет – таких было обнаружено 46 % среди группы, продемонстрировавших неосведомленность о трагедии, что является исключительным упущением, которое, на наш взгляд, необходимо обязательно восполнить. Среди респондентов, которым Хайбах известен по жутким событиям, 94 % опрошенных смогли назвать число погибших – более 700 человек, 6 % участников исследования затруднились ответить. Полученные эмпирические данные демонстрируют необходимость обратить внимание на сохранение исторической памяти о событии в среде потомков. «Античеловечные» деяния, совершенные по отношению к наиболее уязвимым категориям людей, должны быть известны каждому следующему поколению чеченцев.
Речь, конечно же, не идет об абсолютизации или «зацикливании» на подобного рода этнических травмах, скорее, о необходимости формирования у молодых людей целостной картины прошлого, влияющей на их социокультурную и этноконфессиональную идентичность. Уместно вспомнить слова Зигмунта Баумана: «Самозаживление исторической памяти, которое происходит в сознании современного общества, по этой самой причине гораздо больше, чем просто оскорбление жертв геноцида. Это еще и знак опасной и самоубийственной слепоты» (Бауман, 2013: 10). Так, им была совершенно четко сформулирована мысль о ключевой роли исторической памяти в деле воспитания подрастающих поколений, трансляции знаний и формировании этнической идентичности.
Недопустимость распространения манкуртизма в любых его ипостасях очевидна. Специальных социологических исследований заслуживает, на наш взгляд, выявление даже незначительных тенденций исторического беспамятства. Ж.Т. Тощенко определяет несколько форм проявлений манкуртизма: полное игнорирование прошлого, его искажение (фальсификация), манкуртизм с этническим акцентом (Тощенко, 2017).
Налицо необходимость создания мемориальных комплексов, памятников, напоминающих современникам о произошедшей трагедии в с. Хайбах. Глава Чеченской республики Р.А. Кадыров в ходе своего выступления в Галанчожском районе поддержал эту инициативу: «Также я принял еще одно важное решение – открыть мемориальный комплекс на территории бывшего села Хайбах, жители которого были замучены и сожжены в феврале 1944 г.»1. Р. Кадыров подчеркнул, что выполнивший приказ Л. Берии офицер НКВД Михаил Гвишиани, являвшийся непосредственным исполнителем преступления, спустя годы был с позором лишен званий и полученных наград. Глава региона отметил, что мемориал будет установлен во избежание повторения подобных преступлений когда-либо еще2.
Увеличивающееся значение практик коммеморации связано с потенциальной угрозой утраты фундаментальных духовных ценностей среди подрастающих поколений чеченцев в социокультурном пространстве, трансформацией мировоззренческих установок, размыванием нравственных устоев и границ, традиционных этнических правил и пр. Исследование практик коммеморации несет в себе потенциал уникальной ценности для людей, стремящихся познать связь между прошлым и настоящим, спрогнозировать будущее.
О сложной странице истории чеченского этноса, связанной со заживо сожженными людьми в с. Хайбах, усилиями Руслана Коканаева и режиссера Хусейна Эркенова в 2014 г. был создан полнометражный художественный фильм «Приказано забыть». Картина, к сожалению, так и не была допущена к показу на территории России.
В заключение обозначим некоторые выводы:
-
1. Трагедия в селении Хайбах Галанчожского района, произошедшая в ходе насильственного переселения чеченцев в 1944 г. с исконных мест их проживания в Казахстан и Среднюю Азию, остается кровоточащей раной этноса. Восприятие ее ныне живущими чеченцами и представителями иных этносов в рамках социологического знания практически не исследовано. Вместе с тем обнаруживается потребность в междисциплинарном подходе к такого рода работам.
-
2. Интересным и необходимым, на наш взгляд, восполнением пробелов в знаниях исторических событий ныне живущих чеченцев, в особенности представителей молодежи, могли бы стать социологические исследования, проведенные с использованием биографического метода, глубинных интервью и других качественных социологических методов. Особую ценность на сегодняшний день имеют свидетельства выживших в ходе геноцида чеченцев в 1944 г. Их число сокращается ежедневно и важно максимально зафиксировать сведения «из первых уст».
-
3. Информация, полученная в ходе проведения социологического опроса, свидетельствует о недостаточной осведомленности молодых людей об этом величайшем потрясении для чеченского этноса. Ответственность за сохранение в памяти народа непростых страниц истории несет семья, образовательные учреждения, средства массовой информации и другие социальные институты. Мощным инструментом, способным оказать эмоциональный эффект на сознание современников и способствовать повышению информированности молодых чеченцев о событиях прошлого, являются, на наш взгляд, социальные сети, художественное кино.
-
4. Несмотря на документально подтвержденные и описанные исторические факты, свидетельства очевидцев и родственников погибших, не вызывающих ни тени сомнений в случившемся, сегодня все чаще появляются информационные провокационные статьи на различных интернет-ресурсах, нацеленные на фальсификацию и даже отрицание событий, произошедших в с. Хайбах. Подобная деятельность поражает отсутствием объективности, фактологического материала и общечеловеческих моральных принципов у людей, публикующих дезинформацию. Следовательно, все лица, заинтересованные в распространении достоверных сведений, должны и могут вести соответствующую работу в социальных сетях с целью недопущения фальсификации и искажения исторических фактов. Это имеет колоссальное непреходящее значение для сохранения исторической памяти чеченского народа и, следовательно, для защиты этноконфесси-ональной идентичности его представителей.
-
5. Ключевую роль в передаче новым поколениям чеченцев вахты исторической памяти о трагедии в селении Хайбах Галанчожского района ЧИАССР имеет мемориальная визуализация
тех страшных событий. Руководством региона ведется соответствующая работа. Вместе с тем с целью четкой фиксации в сознании людей верного представления о прошлом необходимым представляется:
-
• установление в городах республики мемориальных досок с поименным перечнем погибших;
-
• разработка и возведение архитектурных и скульптурных памятников (по аналогии с теми, которые создают пронзительные трагичные образы в Холокосте, Хатыни, Лидице);
-
• проработка маршрутов для проведения экскурсий в мемориальном комплексе «Хайбах» с бесперебойным обслуживанием желающих узнать больше о событиях февраля 1944 г.;
-
• обеспечение распространения фотографий о событиях в с. Хайбах, открыток, брошюр.
-
6. Сохранение и воспроизводство исторической памяти чеченцев, в частности, касающейся событий в селении Хайбах, на наш взгляд, непреходяще актуально. Акцент в публичном и медийном пространстве на масштабных трагедиях, которые для малочисленного чеченского этноса оборачивались серьезными катастрофами, не должен абсолютизироваться, но и исчезновение из человеческой памяти, забвение имевших место событий и фактов недопустимо, так как это может напрямую повлиять на формирование целостной картины прошлого этноса у подрастающих поколений.
-
7. Коммеморации могут способствовать интенсивному развитию чеченского общества во всех сферах, снижать степень напряженности в нем, являющейся следствием пережитых этнических травм, одновременно демонстрируя целостность и непредвзятость в оценках прошлого. Это необходимо для обеспечения естественных социальных процессов в настоящем и будущем, а также во избежание каких-либо информационных и фальсификационных манипуляций, связанных с травмирующими событиями.
Список литературы Трагедия в чеченском Хайбахе: память поколений (социологический анализ)
- Бауман З. Актуальность Холокоста. М., 2013. 316 с.
- Козлов В.А., Козлова М.Е., Бенведути Ф. Парадоксы этнического выживания: сталинская ссылка и репатриация чеченцев и ингушей после Второй мировой войны (1944 - начало 1960-х гг.). СПб.; М., 2016. 128 с.
- Тишков В.А. Национальности и национализм в постсоветском пространстве (исторический аспект) // Этничность и власть в полиэтнических государствах. М., 1995. С. 147-171.
- Тощенко Ж.Т. Травма как деформация эволюционного и революционного развития общества (опыт социологического теоретизирования) // Социологические исследования. 2017. № 4 (396). С. 16-26. EDN: YQRLEH
- Штомпка П. Социальное изменение как травма (статья первая) // Социологические исследования. 2001. № 1. С. 6-16.