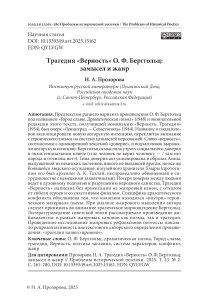Трагедия «Верность» О. Ф. Берггольц: замысел и жанр
Автор: Прозорова Н.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 2 т.23, 2025 года.
Бесплатный доступ
Предтекстом раннего варианта произведения О. Ф. Берггольц под названием «Город славы. Драматическая поэма» (1948) и окончательной редакции этого текста, получившей номинацию «Верность. Трагедия» (1954), был очерк «Ленинград — Севастополь» (1944). Название и подзаголовок эксплицировали новую авторскую интенцию, переключая внимание с героического топоса на систему ценностей персонажей. Слово «верность», соотносимое с однокоренной лексемой «доверие», и подзаголовок выражали авторскую позицию: Берггольц осмысляла утрату социального доверия в экзистенциальном ключе («где человек не верит человеку — / там нет народа и отчизны нет»). Тема доверия актуализирована в образах Анны, выпущенной из немецких застенков, никого не выдавшей врагам, но все же боявшейся людского осуждения, и музейного хранителя Хмары (прототипом его был археолог А. К. Тахтай, несправедливо обвиненный в сотрудничестве с немецкими захватчиками). Потеря доверия между людьми ведет к духовному подполью и разрушению народного единства. Трагедия «Верность» написана без ориентации на жанровый канон, с отказом от гибели героев и со счастливым финалом. Специфика драматического конфликта обусловлена тем, что коллизия находится «внутри» героического материала пьесы. При анализе жанрового мышления автора следует принимать во внимание трагическое мироощущение Берггольц. Литературоведение советской эпохи рассматривало произведение амбивалентно: в рамках жанровых канонов как поэмы, так и трагедии. Проведенное исследование жанровых рефлексивов поэтессы показало репрезентативность внетекстового авторского определения произведения: «трагедия нашего времени».
О. Ф. Берггольц, драматическая поэма, Город славы, трагедия, Верность, поэтика заглавия, система характеров, конфликт, жанр
Короткий адрес: https://sciup.org/147248216
IDR: 147248216 | DOI: 10.15393/j9.art.2025.15162
Текст научной статьи Трагедия «Верность» О. Ф. Берггольц: замысел и жанр
П роблема жанра трагедии О. Ф. Берггольц «Верность» (1954) отчасти рассматривалась в прижизненной автору критике (см.: [Назаренко], [Анастасьев]) и в литературоведении советского периода (см.: [Синявский: 231–232], [Банк: 95], [Павловский: 45], [Фролов, 1957: 319; 1979: 299] и др.). С учетом неизвестных архивных источников и недавно опубликованных материалов (дневники, эпистолярий, инскрипты Берггольц) история замысла и жанровая принадлежность «Верности» анализируются впервые.
Идентификация жанра произведения — ключ к его интерпретации. «Чем полнее мы характеризуем произведение в жанровом отношении, — отмечал искусствовед М. С. Каган, — тем конкретнее схватываем многие его существенные черты, которые определяются именно избранной для него автором точкой пересечения всех жанровых плоскостей » [Каган: 424].
Среди задач исследования: история замысла, поэтика заглавия и жанрового подзаголовка, трагическое мироощущение автора, система характеров и конфликт, идентификация жанра «Верности». Работа выполнена с опорой на теоретические разработки современных исследователей, занимающихся проблемами жанровых номинаций (см.: [Зырянов], [Ищук-Фадеева], [Тулякова], [Васильев]).
История замысла, предтекст, содержание
После окончания войны О. Ф. Берггольц задумала новое драматическое произведение в стихах, работа над которым началась в конце 1946 г. Драматическая поэма была обещана для постановки в Камерном театре, но Берггольц не имела возможности погрузиться только в эту работу, поскольку параллельно писала другую пьесу — «У нас на земле» (1947; совместно с Г. П. Макогоненко).
Ранний вариант был закончен к концу 1948 г. и имел авторское название «Город славы. Драматическая поэма»1. Судьба этой редакции текста была печальной. А. Я. Таиров и А. Г. Коонен ждали пьесу, Камерный театр принял ее, но постановка не состоялась. «Главрепертком запретил трагедию "за мрачность" и "искажение действительности", — писала Берггольц в автобиографии. — Комитет по делам искусства заявил, что не согласен с запрещением, но просил меня "сделать трагедию повеселее". Я ответила, что с созданием такого новаторского жанра, как "веселая трагедия", заведомо не справлюсь и положила ее в стол»2. Еще до завершения работы поэтесса опубликовала «Два вступления к трагедии "Город славы"»3, которые в окончательной редакции были значительно переработаны4.
Под героическим топосом город славы подразумевался не названный в тексте, но угадываемый по описаниям крымских реалий город-герой Севастополь. Он возник в модусе художественного сознания Берггольц не случайно. Первый раз она побывала здесь осенью 1935 г. и написала стихотворение «Севастополю» («Белый город, синие заливы…»). Как знаковый локус крымский город оставался в поле ее зрения и позднее. В другом стихотворении под таким же названием «Севастополю» («О, скорбная весть — Севастополь оставлен…»), написанном 3 июля 1942 г., Берггольц назвала его «городом славы» и «доблестным братом» блокадного Ленинграда5.
Осенью 1944 г., после посещения освобожденного от немцев Крыма, в очерке «Ленинград — Севастополь», опубликованном в книге «Говорит Ленинград» (Л., 1946), Берггольц продолжила развивать обозначенную раньше тему. Увидев полностью разрушенный город, она писала:
«Да, Севастополь, что по-русски значит "Город славы", представляет собой сплошную колоссальную руину, огромным амфитеатром поднимающуюся над прекрасными голубыми бухтами и заливами» 6 .
Указывая значение номинации города, Берггольц опиралась на принятый в советском речевом обиходе и закрепившийся в Большой советской энциклопедии перевод с греческого языка лексемы «Севастополь» — «город славы»7.
Весной 1954 г. Берггольц создала новую редакцию текста. В письме к сестре, М. Ф. Берггольц, она сообщала:
«Заново переписала трагедию. Стала новая вещь. Ремарка — стихотворная, много лирики. Идет с триумфом: открывают ею № 7 "Лен<инградского> альманаха" 8 (пошла в набор), издают отдельной книжкой в "Cов<етском> Писателе" 9 . Говорят, что, мол, вершина из написанного, выше всего блокадного и ближе всего именно к лучшему блокадному. <…> Пока самой кажется, что получилось. <…> О трагедии будут говорить много, и по-разному» 10 .
Теперь драматическое произведение имело название «Верность» с подзаголовком «трагедия»; местом действия по-прежнему был Севастополь.
Исходным текстом как ранней редакции «Города славы», так и законченной в 1954 г. «Верности» можно считать упоминавшийся очерк «Ленинград — Севастополь», в котором были обозначены прототипы будущих персонажей и многие картины, позднее перенесенные в трагедию, но с существенным отличием. Так, в очерке город был представлен в конкретном историческом времени и географическом местоположении, а в тексте трагедии — в символическом пространстве. Критика упрекала Берггольц в том, что в «Верности» нет никаких маркеров, указывающих на развитие событий именно в Севастополе. «…Невольно поражаешься, что поэт, желая говорить о Севастополе, — писал В. А. Назаренко, — вместе с тем тщательно избегает конкретных примет этого города, определенных улиц, определенных площадей…» [Назаренко: 184]. Однако авторская стратегия Берггольц и состояла в том, чтобы расширить пространство города славы до пределов, позволяющих включить в него другие города-герои («доблестного брата» — осадный Ленинград), и вписать действие в некое символические пространство: «Безмолвие руин. Наверное, такой, / такой была разрушенная Троя» (Берггольц, 1988: 43). Отождествлением руин Севастополя и древней Трои, упоминанием античного Херсонеса, на месте которого расположен город славы, а также отсылками в прошлое автор придавала действию подчеркнуто патетический характер.
Действие в трагедии разворачивалось на площади с колодцем и на городских развалинах, где в подвале скрывались от немцев «городские партизаны». На городской окраине молодая женщина Анна встретила мужа, Андрея Морозова, которого считала погибшим, и в сердечном порыве попросила его бросить борьбу, скрыться, сделать так, чтобы для всех он считался мертвым. Муж резко отказался и ушел, а Анна солгала горожанам, что Андрей погиб. Она стала искать новой встречи с мужем и невольно привела немцев к местопребыванию подпольщиков. Чтобы не выдать Андрея, Анна пошла навстречу фашистам, схватившим ее и посадившим в гестапо. После того как измученную пытками Анну немцы отпустили в качестве приманки, она вновь увидела на городской площади переодетого в слепого певца Андрея. Последний раз Анна встретила мужа на той же площади среди бойцов, освободивших город от захватчиков, но встреча была короткой: Андрей получил новое задание. Параллельно в трагедии развивалась побочная линия: раненого подпольщика Сергея, жениха севастопольской девушки Лены, выдал немцам врач Жиго. Презираемый горожанами предатель умер жалкой смертью на городской площади. Участница многих сцен — Ирина Власьевна, мать ушедших на фронт севастопольцев, помогала подпольщикам в их борьбе. В трагедии много девушек и женщин, стиравших кровавое солдатское белье, а также стариков и просто безымянных горожан, обозначенных в тексте лексемой «народ». Действие заканчивается освобождением города, армия продолжает наступление на запад, а жители приступают к восстановлению города-героя.
Поэтика заглавия, характеры, конфликт
Смысловым отличием поздней редакции пьесы от ранней стало изменение названия с «Города славы» на «Верность» и жанрового подзаголовка. Теперь автор определяла произведение не как драматическую поэму, а как трагедию, изменяя тем самым горизонт зрительского (читательского) ожидания и не смущаясь тем, что критики «самого слова "трагедия" боялись долгие годы»11.
-
Н. И. Ищук-Фадеева, исследовавшая эстетику названия в драматургии в исторической перспективе, отмечала, что в русской драме, начиная с XIX в., заглавие становится выражением авторской позиции: драматург показывает «свое отношение к созданному миру через соотношение заглавия и жанрового обозначения», а в драматургии XX в. заглавие «способно уже выразить модель мира» [Ищук-Фадеева: 239, 240, 243].
Рассмотрим этот тезис применительно к случаю Берггольц. Если заглавие «Город славы» вызывало ассоциацию с героическим топосом, то номинация «Верность» эксплицировала новую авторскую интенцию, переключая внимание на духовный мир, систему ценностей, нравственно-этические качества персонажей. Новое заглавие было полисемантично: в общенациональной проекции оно означало преданность родине/городу в дни войны, в личном плане — верность персонажей друг другу (жены и мужа — Анны и Андрея, невесты и жениха — Л ены и Сергея).
Тема преданности жителей «городу славы» была впервые актуализирована в очерке «Ленинград — Севастополь». Здесь Берггольц цитировала присягу на верность, выбитую на мраморной стеле (плите) гражданами древнего Херсонеса. В трагедии клятву родному городу читает Хмара — старый археолог, хранитель сокровищ херсонесского городища и музея, мечтающий во что бы то ни стало раскопать забетонированные немцами развалины древнего храма Диониса. Приводим фрагмент присяги:
«Клянусь Зевсом, Землею, Солнцем и Девою, и героями, кои владеют городом, — я не предам ни Херсонеса, ни Прекрасной гавани, ни прочих укреплений, ничего никому — ни эллину, ни варвару, но буду охранять для своего народа» ( Берггольц, 1988 : 72).
В художественном сознании Берггольц слово «верность» напрямую соотносилось с однокоренной лексемой «доверие». В связи с этим напомним, что прототипом Хмары был археолог, научный сотрудник Херсонесского государственного историко-археологического музея Александр Кузьмич Тахтай (1890–1963). Его имя Берггольц благожелательно упоминала в очерке «Ленинград — Севастополь». Однако упоминание Тахтая, которого необоснованно обвиняли в сотрудничестве с немцами (впоследствии обвинение сняли), послужило поводом к запрещению книги «Говорит Ленинград» и передаче ее в спецхран [Блюм: 50–51]. Образами Хмары и выпущенной из застенков Анны, никого не выдавшей, но все же боявшейся людского осуждения и презрения ( «_я понимаю — эти палачи / затем меня приговорили к жизни, / чтоб люди мне не верили^» ( Берггольц, 1988 : 86) ) , Берггольц актуализировала проблему доверия между людьми.
Сама автор определила тему трагедии так: «"великое доверие народа к Советской власти в период отчаянного положения"» ( Берггольц, 1990 : 496). Драматическую поэму «Город славы» предварял эпиграф — вольная цитата из речи Сталина на приеме 24 мая 1945 г. в честь Победы:
«…доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом. СТАЛИН» 12 .
В «Верности» Берггольц сняла этот эпиграф. Поэтессу принудили вставить эту цитату как «защитный щит», необходимый для обнародования произведения. «И вот в усиливающемся духовном терроре надо написать вещь высокую и свободную, — отмечала Берггольц в дневнике 15 марта 1948 г. — <…> И меня уже неодолимо воротит на вставление каких-то защитных щитов из знакомых текстов и знакомых им мыслей. Напр < имер > — о т < оварище > Сталине — чего уж проще, и как же без них — а? И знаю — как!. . Я сопротивляюсь этому, и силы уходят на негативную программу, куда-то вне, а не внутрь, не на пользу трагедии»13.
Вставка из речи Сталина не помогла Берггольц. Драматическое произведение несло в себе присущее поэтессе трагическое мироощущение, которое и стало причиной запрета постановки «Города славы» в 1948 г., а затем вызвало возмущение критиков после публикации «Верности». «Трагизм становится почти предметом любования, преклонения», — клеймил автора рецензент [Назаренко: 186]. Действительно, Берггольц воспринимала войну как всенародную человеческую трагедию ( Берггольц, 2020 : 146], но не меньшей бедой считала утрату доверия между людьми, начало которой положили сталинские репрессии. Они напрямую коснулись поэтессы, арестованной по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности ( была в заключении с 13 декабря 1938 г. по 3 июля
1939 г., выпущена за недоказанностью обвинений). Неслучайно поэтесса отмечала в дневнике во время работы над трагедией: «…я все же хочу писать ее как очень личную вещь…» ( Берггольц, 2020 : 343).
Испытавшая на себе тяжесть сталинских застенков, Берггольц называла «трагедией небывалых масштабов» строительство Волго-Донского канала, осуществлявшееся преимущественно силами заключенных. Потерю доверия между людьми она рассматривала как разрушение национального характера [Прозорова, 2025: 266]: «…ведь русский мужик искони всю жизнь на доверии друг к другу строил»14. Автор вложила в уста Хмары принципиально важное для себя утверждение: «…где человек не верит человеку — / там нет народа и отчизны нет» ( Берггольц, 1988 : 91). Берггольц понимала, что если рецензенты вычитают тему доверия/недоверия в пьесе, то сразу заговорят о «неблагополучии» в душе автора, поскольку уже сама «ТЕМА доверия вызывает мысль о травме и разладе с действительностью» ( Берггольц, 2020 : 346), а «разлад с действительностью» был у поэтессы налицо. Более того, «душевный разлад» персонажей в литературном произведения не поощрялся критикой: «…почему этот разлад, раздвоенность, — возмущался В. А. Назаренко, говоря о главной героине, Анне Морозовой, — поставлены в центр, сделаны основой повествования о городе-герое?» [Назаренко: 185]. Берггольц же отстаивала право на внутренние сомнения, спорила с директивой о том, что раздвоенность несвойственна «советскому человеку», заявляя: «Это неправда» ( Берггольц, 1994 : 70).
Литературоведы советской эпохи критически оценивали систему характеров и конфликт в «Верности». Они отмечали отсутствие индивидуализации характеров в замысле автора: «…все герои говорят на один лад» [Назаренко: 185] (ср.: [Венгров: 125]). Тот же упрек повторяла Н. Б. Банк в книге о Берггольц [Банк: 104]. Поэтесса читала ее с ручкой в руках и оставила в тексте ряд помет, свидетельствующих о своем несогласии с исследовательницей. После публикации инскриптов и маргиналий Берггольц, появилась возможность узнать мнение поэтессы о критических тезисах Банк, относящихся к трагедии «Верность».
Так, размышляя о системе художественных образов, исследовательница отмечала: «…человеческие характеры недостаточно психологически достоверны» [Банк: 104]. Берггольц подчеркнула в книге этот пассаж и на правом поле страницы сделала помету: « Это трагедия без характеров » [Прозорова, 2013: 958]. Банк писала: «…люди с разными именами и фамилиями, разного возраста говорят в трагедии совершенно одинаково — чересчур возвышенно, велеречиво и холодно, они декламируют на любые темы в самых неподходящих для этого обстоятельствах» [Банк: 103]. Берггольц подчеркнула слова «совершенно одинаково», а на левом поле написала: « это установка » [Прозорова, 2013: 958].
Маргиналии Берггольц однозначно свидетельствуют о том, что заданность характеров в трагедии — это программа, а не слабость мастерства, как считали критики. Действующие лица как часть заголовочного комплекса в трагедии не указаны. Главным действующим героем является народ; другие образы носят символический характер: Мать (Ирина Власьевна) — аллегорический образ матери-Родины, Жена (Анна) — олицетворение верности, Невеста (Лена) — олицетворение чистоты, археолог Хмара — хранитель народной культуры, предатель (Жиго) — разрушитель народного единства.
Не обнаруживая в пьесе динамичной борьбы горожан/ подпольщиков с захватчиками, рецензенты подчеркивали «отсутствие зримых фигур врага», что усугубляло «абстрактность повествования» без ярко выраженного внешнего противоборства [Назаренко: 185]. Декламационный характер текста, «авторские умозаключения» также вызывали неприятие Н. Б. Банк: «Ее трагедия рассудочна» [Банк: 102], на что Берггольц отвечала на полях книги: « нет! интеллектуальна » [Прозорова, 2013: 958].
Характер конфликта исследователи определяли как сложный [Банк: 97], условный и схематический [Цурикова: 30], подчеркивая скорее трагическую атмосферу пьесы [Фролов, 1957: 320]. Вопреки классической традиции, предполагающей гибель героя и катастрофическое развитие действия в финале, «Верность» имеет благополучный конец. Трагедия завершается освобождением «города славы», а главные герои не только живы, но счастливым образом встречаются на городской площади. Таким образом, специфика конфликта в «Верности» обусловлена тем, что коллизия находится «внутри» героического материала пьесы и потому не получает традиционного, ожидаемого для жанра трагедии разрешения в финале. В связи с этим рассмотрение жанровой природы произведения — путь к его интерпретации.
Жанр «Верности» и трагическое мироощущение автора
Обратимся к аналитике литературоведов советского времени, рассматривавших «Верность» в рамках жанровых канонов поэмы и трагедии. Часть исследователей идентифицировала произведение как поэму: «Это — поэма , несмотря на драматическую форму, никак не возможная для сценического исполнения» [Назаренко: 184]; поэма, хотя и «своеобразная по форме» [Венгров: 124]; драматическая поэма «с неоправданно счастливой развязкой» [Богданов: 153]; лирическая поэма в лицах [Сквозников: 263]. Другие же акцентировали драматургическую стратегию автора: смелая трагедия [Анастасьев: 3]; трагедия по философскому замыслу и по характерам [Фролов, 1957: 319]; современная трагедия [Фролов, 1979: 299]; трагедия [Синявский: 232]; советская трагедия [Борев: 258]; трагедия о народе [Павловский: 45]. Г. М. Цурикова использовала одновременно оба определения: драматическая поэма/ трагедия [Цурикова: 28–31]. Н. Б. Банк писала: «Берггольц хотела создать собственно трагедию и по содержанию и по форме» [Банк: 95]. Т. П. Голованова также указывала, что произведение выполнено в «жанре высокой классической трагедии» [Голованова: 581].
Сама Берггольц проявляла амбивалентный подход к родовому определению своего произведения, неоднократно помещая трагедию «Верность» в сборники стихотворений и поэм ( см.: «Лирика» (М., 1955), «Поэмы» (Л., 1955), «Верность: стихи и поэмы» (Л., 1970), «Поэмы» (Л., 1974) ) . Вслед за ней составители
«Избранных произведений» Берггольц, вышедших в «Библиотеке поэта», поместили в состав тома трагедию «Верность». Таким образом, жанровая принадлежность «Верности» требует прояснения.
«Осознание жанровой проблематики в мире литературы, — отмечает О. В. Зырянов, — происходит двумя путями»: идентификацией жанра занимается профессиональное сообщество (критики и литературоведы), «но встречное движение в этом направлении <…> в аспекте эстетической целостности — осуществляет сам художник» [Зырянов: 80].
Для атрибуции жанра произведения, помимо уже рассмотренных выше элементов заголовочного комплекса, важное значение имеют жанровые рефлексивы15. Среди них выделяют внутритекстовые и внетекстовые авторские обозначения жанра.
Внутритекстовые жанровые рефлексивы отражены в тексте художественного произведения. В процессе анализа должны учитываться все жанровые определения, находимые в исследуемом тексте [Тулякова: 35]. В «Верности» они представляют собой три поэтические вставки, названные автором обращениями к трагедии: «Первое обращение к трагедии» — начало произведения, «Второе обращение к трагедии» — конец второго акта, «Последнее обращение к трагедии» — финал. В проекции заявленной Берггольц проблемы доверия между людьми, народом и правительством конфликт обозначен автором во «Втором обращении к трагедии» в виде следующего обобщения: « Трагедия всех трагедий — душа моего поколенья… » ( Берггольц, 1988 : 68).
К внетекстовым жанровым обозначениям относятся «авторские комментарии, высказывания, "разбросанные" по многочисленным художественным и публицистическим произведениям, статьям и эссе, интервью и выступлениям» [Васильев: 56] и, добавим, эго-документам.
Отметим, что художественные тексты и эго-документы (дневники, письма) передают индивидуально-авторское трагическое мироощущение Берггольц. Так, в стихотворении, написанном осенью 1941 г., она определяла свою роль в начавшемся военном «спектакле»-трагедии так: «его актер, и зритель, и судья» (Берггольц, 2014: 155). Подобное жизнеощущение эпохи было свойственно многим соотечественникам поэтессы, пережившим социальные катастрофы, сталинский террор и ощущавшим войну как трагедию. Однако в дневниковой записи поэтессы, сделанной после прочтения писем мужа, Н. С. Молчанова, погибшего в блокаду, доминирует трагедийный мотив самой жизни. «…Вот в этих наших письмах настоящая трагедия, — писала Берггольц, — она такая простая, и простотой этой своей — трагична, она ужас какая простая — она просто жизнь» (Берггольц, 2020: 390). При этом поэтесса обладала способностью «наслаждаться в с е й ж и з -н ь ю с р а з у, всей поэзией и всей трагедией ее» (Берггольц, 2014: 408). Трагическое обладало у нее индивидуально-авторской аксиологией: знаменательные «вершинные» дни собственной биографии были осенены «высшей — трагедийной — красотой» (Берггольц, 2014: 256); трагедию она определяла как «венец поэзии и зенит» (Берггольц, 1994: 70); в трагедийной составляющей жизни видела исток возрождения, восстановления («Трагедия, матерь живого огня» (Берггольц, 2014: 241)). Эту особенность художественного сознания поэтессы следует принимать во внимание при анализе жанрового мышления Берггольц.
Прояснению вопроса о жанровой принадлежности «Верности» помогает письмо О. Ф. Берггольц к Ю. П. Герману. В нем содержится важнейший жанровый рефлексив об исследуемом тексте: здесь автор называет «Верность» «трагедией нашего времени»16. В основе лежит не традиционная дефиниция (трагедия), а распространенное жанровое определение с уточняющим дополнением и эпитетом ( нашего времени ), решительно манифестирующее авторскую позицию. Какую? Сделаем необходимые пояснения.
Ольга Берггольц была верна коммунистической идее, но отчетливо понимала, как со временем трансформировалась и во что преобразовалась революционная идея о коммуне-мечте [Прозорова, 2025]. Размышляя в дневнике о верности народа «своей власти, своей демократии», поэтесса спрашивала себя, какой демократии, и отвечала: «Советской!! Этой? Сегодняшней? Нет! Мечте! Возлюбленной мечте своей, от которой и к началу войны еще не смогли отказаться, которая вспыхнула с новой силой, обновленная надеждой — "отстоим — все изменится к лучшему"…» ( Берггольц, 2020 : 341). Обреченная на молчание о главном, Берггольц утверждала: «Небывалое, страшное духовное подполье — да, оно существует, это явно. Там — самые верные, самые честные, вот в чем трагедия времени (выделено О. Ф. Берггольц. — Н. П .)» ( Берггольц, 2020 : 327). Потеря доверия между людьми, вследствие чего они вынуждены существовать в подполье, — в этом сокрыта первопричина трагической модели мира Берггольц. Обратимся теперь непосредственно к письму Берггольц к Герману.
У поэтессы было вполне конкретное представление о том, где могла быть поставлена ее трагедия. В середине 1950-х гг. она видела необходимость в создании «театра высокой трагедии», предполагая, что это может быть «Александринка» (Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина). Под впечатлением от прочитанной пьесы Ю. Германа «За тюремной стеной», посвященной Ф. Э. Дзержинскому, и покоренная ее «настоящей трагедийностью», Берггольц писала автору: «В репертуаре, при многообразии пьес, обязана быть ведущая, главная линия, — и в Александринке она может быть — наилучшая, наивысшая — трагедия» (Берггольц, 2021: 428). Поэтесса предполагала, что выбор пьес для такого направления есть. «…И вот — смотри сюда, — как член худсовета, — размышляла она в письме к Герману, — в Александринке идет "Оптимистическая", ставят твою трагедию (подчеркнуто О. Ф. Берггольц. — Н. П.) о Дзержинском, предположим, ставят мою "Верность", — трагедию нашего времени, из классики — великолепный Козинцевский "Гамлет", затем — "Заговор Фиеско", — понимаешь, получается единственный в Союзе театр с определенным профилем, — театр высокой трагедии» (Берггольц, 2021: 428). В русле исследуемой темы в цитации доминантное значение имеет жанровый рефлексив «трагедия нашего времени». В дневниковых записях трагедией времени Берггольц называет духовное подполье. Стало быть, конфликт в «Верности» — это трагедия разлада в душах «самых верных, самых честных людей» в ситуации социального недоверия.
Таким образом, трагедия «Верность» написана без ориентации на строгий жанровый канон, с отказом от внешнего конфликта, гибели героев и со счастливым финалом. Номинация и подзаголовок актуализируют авторскую позицию и модель мира, а внутритекстовые и внетекстовые жанровые номинации раскрывают понятие «трагедии нашего времени» как потери доверия между людьми — духовного подполья, ведущего к утрате народного единства. «Верность» манифестирует индивидуальный процесс жанрового мышления Берггольц, создавшей «интеллектуальную» трагедию с конфликтом «внутри» героического повествования о сопротивлении народа врагу.