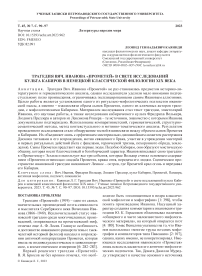Трагедия Вяч. Иванова «Прометей» в свете исследований культа кабиров в немецкой классической филологии XIX века
Автор: Каяниди Леонид Геннадьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературы народов мира
Статья в выпуске: 7 т.45, 2023 года.
Бесплатный доступ
Трагедия Вяч. Иванова «Прометей» не раз становилась предметом историко-литературного и герменевтического анализа, однако исследователи уделяли мало внимания подтекстуальному полю произведения, ограничиваясь эксплицированными самим Ивановым аллюзиями. Целью работы является установление одного из ритуально-мифологических подтекстов ивановской пьесы, а именно - взаимосвязи образа сынов Прометея, одного из ключевых акторов трагедии, с мифологическими Кабирами. Материалом исследования стал текст трагедии, эпистолярий Иванова, его научные работы, а также исследования кабирического культа Фридриха Велькера, Людвига Преллера и авторов из Лексикона Рошера - те источники, знакомство с которыми Иванова документально подтверждено. Использованы компаративистский, герменевтический, структурносемантический методы, метод контекстуального и мотивно-тематического анализа. Результатом проведенного исследования стало обнаружение тесной взаимосвязи между образом сынов Прометея и Кабирами. Их объединяет связь с орфическим мистериально-дионисийским сюжетом растерзания Диониса титанами и его возрождения, мотив священного брака, участие в учреждении мистерий и первых ритуальных действий (бега с факелами, героической тризны, похоронного обряда, земледелия). Сыны Прометея предстают как первые люди. Подобно Кабирам, они образуют мистическую общину, которая носит благочестивый и богоборческий характер. Иванов вписывает свою трагедию в «Прометеиду» Эсхила и использует все три события, которые Велькер считал основным содержанием «Прометея-огненосца»: свадьба Прометея, кража огня, передача его людям. Сценическое пространство ивановской трагедии напоминает Лемнос - остров, где Прометей крал огонь и передавал его Кабирам.
Вяч. иванов, фридрих велькер, людвиг преллер, культ кабиров, прометей, пандора, античная мифология, подтекст, символизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147241133
IDR: 147241133 | УДК: 82.091 | DOI: 10.15393/uchz.art.2023.962
Текст научной статьи Трагедия Вяч. Иванова «Прометей» в свете исследований культа кабиров в немецкой классической филологии XIX века
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Трагедия «Прометей» (1919) – одно из самых значительных произведений поэта-символиста и мыслителя Серебряного века Вячеслава Иванова (1866–1949). Исключительный статус ивановской трагедии среди многочисленных произведений, опирающихся на прометеевский миф, отмечал еще А. Ф. Лосев. Главную особенность и достоинство ивановского разворота темы с тысячелетней историей философ находил в возрождении античной интерпретации Прометея, которая имела не индивидуалистическое и цивилизаторское, а космогоническое измерение [6: 282–283].
Первый рецензент трагедии «Прометей» В. Я. Брюсов не без иронии отмечал, что необ-
ходимо быть «посвященным в недра классической мифологии и мифографии» [1: 398], чтобы понять произведение Иванова. Насущный характер создания комментария к ивановским трагедиям Ю. К. Герасимов обосновывал наличием «обширного и часто малоизвестного мифологического материала», на который опирается поэт [4: 180]. Томас Венцлова указывал на то, что Иванов использовал «многие труды поздних мифо-графов и компиляторов типа Павсания» [2: 107], однако, каких именно, не конкретизировал. Имеющиеся исследования ивановского «Прометея» лишь вскользь касаются его антично-мифологических подтекстов. Так, Доната Джилли Муред-ду утверждает в качестве основного источника
Иванова только Эсхила [10]; Мария Цимборска-Лебода приводит интересные наблюдения над символикой огня [8] и образом Пандоры у Иванова [7]; Сергей Кибальниченко в качестве главного подтекста ивановского «Прометея» утверждает концепцию дионисийства Ницше из «Рождения трагедии»1.
Наше исследование посвящено, пожалуй, самой большой загадке ивановской пьесы, которая, кажется, ускользает от внимания исследователей: кто такие «сыны Прометея», одни из главных действующих лиц трагедии? Вопрос непраздный, поскольку они настолько значимы для Иванова, что при первой публикации трагедии в журнале «Русская мысль» (1915) она имела заглавие «Сыны Прометея».
СЫНЫ ПРОМЕТЕЯ – КАБИРЫ
Образ сынов Прометея Иванов называет своим «свободным созданием»2. Однако это признание в значительной степени лукаво и призвано ретушировать антично-мифологические источники поэта. Из эпистолярия Иванова нам известно, что поэт тщательно собирал материал для своих произведений на античные темы. Так, работая над трагедией «Ниобея», он просил друга семьи М. М. Замятнину сделать выписки из Лексикона Рошера и Энциклопедии Паули, особое внимание обращая на античные первоисточники и визуальные изображения [5: 657–658]. Исследование подтекстуального слоя «Прометея» привело нас к убеждению, что образ сынов Прометея несет на себе определяющий отпечаток кабирической мифологии. Проще говоря, сыны Прометея у Иванова – это античные Кабиры, божества сложной религиозно-мифологической природы, первые люди, первые посвященные, основоположники мистерий. Наша статья является обоснованием этого тезиса. При этом мы будем опираться на исследования немецких классических филологов, которые внесли значительный вклад в осмысление культа Кабиров, прежде всего Фридриха Велькера и Людвига Преллера, а также авторов из Лексикона Рошера (Лео Влоха и Карла Баппа).
Исследования Велькера и Преллера Иванов внимательно изучал и высоко ценил. «Чуткий Велькер, сроднившийся с греческою душой, – глубокий исследователь древнего трагического мифа и древней религии»3. В книге «Дионис и прадионисийство» Иванов назовет Велькера «критически-трезвым, но приверженным методу “вчувствования” психологом»4. Исследованиями Велькера по мифологии Иванов будет пользоваться при создании в 1924 году неоконченной трагедии «Антигона» [3].
Преллера Иванов характеризует как последователя Велькера, а его «Греческую мифологию» – как «ценное руководство»5, в котором обобщается литературный, археологический и эпиграфический материал.
Кабиры – одни из самых загадочных божеств Античности. В XIX веке считалось, что они имеют египетские и финикийские корни. Культ Кабиров был локализован на островах Эгейского моря (Самофракии, Лемносе, Имбросе, Фа-сосе), а также в городах, расположенных на севере Балкан и побережье Малой Азии (Фивах, Фессалониках, Пергаме и Милете), но являлся интернациональным. В поздней Античности он достигает наивысшего расцвета. Это было связано с синкретизмом кабирического культа, в котором смешиваются пеласгические, эллинские, азиатские и фракийские черты, а также с римской государственной мифологией: римляне относились с величайшим благоговением к Само-фракии, так как считали ее метрополией Трои, поскольку Дардан, отец Троса, был уроженцем Самофракии. Варрон утверждает, что римские Пенаты происходят от Великих богов, то есть от самофракийских Кабиров: и те и другие изображались как два стоящих юноши с копьями в руках6.
ОБЗОР ТРАГЕДИИ «ПРОМЕТЕЙ»
Прежде чем анализировать ритуально-мифологические подтексты ивановской трагедии, дадим ее краткий обзор. Первый протагонист трагедии, Прометей, предстает как демиург, который создает человека из земли, пепла титанов и крови Диониса. Затем он учреждает три важнейших обряда: ритуальный бег с факелами, героическую тризну и жертвоприношение богам. Во время бега с факелами совершается первое преступление – убийство Архатом-Каином Аве-ля-Архемора, которое определяет люцифериче-ский, деятельно-созидательный и одновременно преступно-богоборческий характер человеческой культуры.
Вторым протагонистом у Иванова является Пандора. Хор мужчин и женщин, созерцая жертвоприношение, устроенное Прометеем, обнаруживает на алтаре Пандору, закованную в цепи, которые держат Кратос (Власть) и Бия (Сила). Пандора одаривает человеческий род дарами любви, искусством песни и танца. В уста Пандоры вкладывается обширный космоантропо-гонический монолог. Рассказывая о рождении и растерзании Диониса-Загрея, Пандора утверждает богосыновство человеческого рода и богочеловеческий характер человеческого бытия и культуры. Человечество, возмущенное обманом Прометея, выдававшего себя за его родоначальника, и очарованное духовной прелестью Пандоры, бунтует против своего создателя. Пандора пытается образумить хор мужчин и женщин и показывает, что утверждение дионисийского бытия на земле (возвращение огненного сердца Диониса) возможно, только если оставить ее, богиню радости и любви, в плену у титана-богоборца. Человечество отказывается от такого сценария и отступается от Прометея, тем самым нарушается закономерный порядок бытия, Пандора разлучается с Прометеем. Вместо торжества Пандоры человечество своим мятежом против Прометея добивается только ее гибели и казни Прометея. В финале трагедии утверждается господство в мире титанических начал – Власти и Силы, а богоборческое и в то же время деятельно-созидательное дело Прометея должны продолжить его сыны, тайная община верных, которым поручено дело сохранения прометеева огня.
ИВАНОВ И ЭСХИЛ
Иванов встраивает свою трагедию в эсхилов-скую «Прометеиду». Его пьеса завершается тем, с чего начинается «Прометей прикованный»: Власть и Сила ведут плененного титана на казнь. Иванов присоединяется к сформулированной Велькером точке зрения на состав эсхилов-ской трилогии: Πυρφόρος, Δεσμώτης, Λυόμενος. Его произведение занимает позицию «Проме-тея-огненосца». Велькер выделяет три основных эпизода Πυρφόρος: свадьба Прометея, кража огня и передача его человечеству (Welcker: 11). Нельзя сказать, что ивановское произведение ограничивается реконструируемой Велькером драмой, однако в нем сохраняются все три главных мотива Πυρφόρος. Согласно Велькеру, передача огня человечеству непосредственно связана с Кабирами. Прометей передает им огонь на Лемносе «как демонам огня, учителям кузнецов, под чьим покровительством находилось искусство обработки металла» (Welcker: 15). У Иванова лицами, которым Прометей передает огонь, являются как раз его сыны. Косвенную связь с Кабирами обнаруживает также любовная линия в трагедии, которая состоит прежде всего в отношениях между Прометеем и Пандорой.
КАБИРЫ И СВЯЩЕННЫЙ БРАК
В трудах немецких классических филологов о кабирической мифологии центральное место уделяется свидетельству Мнасеаса Патарского (Schol. Apoll. Rhod. 1, 917), согласно которому
Кабиры на Самофракии носили четыре имени: Ἀξίερος, Ἀξιόκερσα, Ἀξιόκερσος, Κάσμιλος. Первые три имени являются эпиклезами Деметры, Персефоны и Аида (так эти имена трактует античный комментатор); четвертое, Κάσμιλος, отождествляется с Гермесом.
Префиксоиды первых трех имен восходят к слову ἄξιος ‘священный’. Велькер трактует Ἀξίερος как мужеженское начало, Ἔρος διφυής, «двуприродный Эрос», «неиссякаемая жизнь» (Welcker: 240). С самофракийской Деметрой Велькер считает связанным разделение андрогинного существа на мужскую и женскую часть: Ἀξιόκερσα и Ἀξιόκερσος. Корень -kers- Вель-кер возводит к слову «брак»: κέρσαι – γαμῆσαι, κέρσης – γάμος. Отсюда Ἀξιόκερσος трактуется как священный супруг, а Ἀξιόκερσα – как священная супруга7. Из анализа семантики кабириче-ских имен делается вывод, что в самофракийском культе священный брак играл значимую роль, по образцу культа элевсинского8. Более того, матримониальные отношения мифологического Прометея некоторым образом связаны с кабири-ческим священным браком: жена Прометея носит имя Ἀξιοθέα (Tzetz. ad Lycophr. 1283), которое ассоциируется с самофракийскими эпиклезами Кабиров9 (Welcker: 12).
Для трагедии «Прометей» мотив священного брака очень значим. Напомним, что, согласно гипотезе Велькера, одно из трех событий эсхи-ловского «Прометея-огненосца» – брак Прометея и океаниды Гесионы. «Прометей», сознательно встраиваемый Ивановым в контекст эсхилов-ской трилогии, тоже содержит брачные мотивы. Так, образцом священного брака становится союз Зевса и Персефоны, от которого появляется Дио-нис-Загрей (этот орфический миф рассказывается Ивановым, чтобы показать божественный генезис человечества, его связь с Дионисом). В этом случае Зевс выступает в своей хтонической ипостаси Аида, Ἀξιόκερσος, а Персефона – как супруга Зевса, Ἀξιόκερσα.
Ἀξίερος (демиургическая ипостась Деметры) может быть отождествлена с Фемидой-Геей из ивановской трагедии, которая является матерью Прометея. Она помогает Прометею совершить разделение своего целостного духовно-душевного состава на две части – мужскую и женскую. Прометей отдает женскую часть своей души, секуляризирует свою Аниму, а Фемида создает для нее телесную форму. Прометей, таким образом, предстает как Ἀξιόκερσος, а Пандора – как Ἀξιόκερσα. Пандора одновременно сестра и невеста Прометея: «Невесту, как Весну, убрали Оры; И снял с меня фату жених и брат…» (Прометей: 66, 67).
Ивановская Пандора сходна с Гесионой. Пандора приносит в мир, созданный Прометеем, любовь и удовольствия, главные из которых – песня и танец. Гесиона понимается Велькером как «Певица»: Ἡσιόνη от ἡσι, аориста от глагола ᾄδω ʻпоюʼ (Welcker: 12).
Третья форма священного брака, которая постулируется в рамках трагедии «Прометей», – это союз нового Диониса и умершей (плененной) Пандоры-Анимы, которую, явившись на земле за своим небесным огнем, хранимым сынами Прометея, Дионис-Жених должен воскресить (освободить).
КАБИРЫ, ДЕМИУРГИЯ ПРОМЕТЕЯ, ПАНДОРА
С Кабирами связано возникновение человеческого рода, и сами они являются первыми людьми: «Древние Кабиры [живут] как первый человек и его прекрасный сын» (Bloch: 2524). Так, известно, что в Фивах почитались два Кабира: Прометей и его сын Этней, которым Деметра вручает некий таинственный ларец. Мифологическая связь Кабиров с Деметрой указывает на родство элевсинских и самофракийских мистерий. Подобно тому как в Элевсине ставился на первый план вопрос о конце нашего бытия, так в кабирических мистериях – вопрос о возникновении человеческого рода (Bloch: 2541).
В Лексиконе Рошера анализируется чернофигурная чаша для питья второй половины IV века (Bloch: 2537). В ее правом углу изображен бородатый Дионис, названный Кабиром. Рядом с ним – ребенок, который черпает из кратера вино. Его имя – Παῖς ‘дитя’, ‘юноша’. Известно, что ему в дар приносили игрушки, особенно волчки. Посередине стоит ребенок Πρατόλαος и смотрит на пару слева: мужчину по имени Μίτος и женщину, названную Κράτεια. Πρατόλαος понимается как первый человек, Μίτος – нить. Орфей называет его семенем. Блох трактует Μίτος как ‘оплодотворяющая потенция’. Κράτεια имеет значение ‘порождающая’. Отмечается, что эта ваза связана с сюжетом сотворения человека, который сочетался на Лемносе с кабирическим культом.
Дионис-Кабир с этой чаши для питья определяет собой ивановский образ Зевса-Диониса, мистериальной ипостаси Бога Отца, который, проглатывая сердце Диониса-Загрея, спасает его сущность. Παῖς тождественен Дионису-Загрею, жертвенной ипостаси Диониса, которому Зевс передает власть над миром и которого титаны привлекают игрушками, чтобы принести в жертву. Пара Μίτος – Κράτεια соответствует ивановским Прометею и Пандоре, которые порождают человеческий род.
Эту вазу и анализ изображенного на ней можно трактовать как один из источников замысла ивановской трагедии, оригинальной особенностью которой является сопряжение мистериаль-но-дионисийского сюжета (рождение Диониса, его растерзание титанами и возрождение) с прометеевским мифологическим сюжетом, одним из столпов которого является демиургия Прометея, в которой оказывается задействована и Пандора. Ивановский Прометей творит человеческий род из земли, смешанной с кровью Ди-ониса-Загрея и пеплом титанов, а спасение богоборческого человечества связывается с явлением нового Диониса, который спасет пленную Пан-дору-Аниму-Землю.
Особенностью античной чаши является параллелизм между мужеженской парой справа и ка-бирической парой слева. Иванов трактует этот визуальный мотив как повторение мистериально-дионисийского сюжета в сюжете прометеевском. Прометей и Пандора в разных ситуациях трагедии берут на себя роль то Диониса-жертвы, то титанов-жрецов. Так, когда Прометей добывает небесный огонь, который необходим ему для завершения демиургии, он насильственно-титанически приковывает Пандору к скале. К ней слетаются, как молнии, олимпийские боги, и Прометей крадет огонь от этих молний. Здесь Пандора предстает как Дионис-жертва, а Прометей – как титаны. Но когда человечество отрекается от Прометея как своего демиурга и бунтует против законов мироздания, которые он установил, Пандора сама становится подобна титанам и казнит Прометея.
СВЯЗЬ КАБИРОВ С ДИОНИСОМ И ТИТАНАМИ
В мифологической традиции Кабиры отождествлялись как с титанами, так и с жертвенным Дионисом-Загреем.
Взаимосвязь Кабиров с Дионисом отражается в разных античных источниках. Так, Кабиры из одноименной драмы Эсхила, обитатели Лемноса, предстают как благие демоны, связанные с виноделием10 (Bloch: 2523). В «Деяниях Диониса» Нонна лемносские Кабиры Алкон и Эв-римедон принимают участие в индийском походе Диониса (Nonn. 14, 17; 24, 93; 27, 120 и 327). Храм Кабиров в беотийском Анфедоне находился по соседству с храмом Диониса (Paus. 9, 22, 5). Дионис как учредитель посвящений может именоваться Кабиром (Bloch: 2527).
Велькер, Преллер, Блох уделяют пристальное внимание фессалийскому мифу о ритуальном убийстве Кабирами своего брата (Welcker: 253; Preller: 708; Bloch: 2534). Так, два брата, называ- емые либо Кабирами, либо Корибантами, убивают третьего, заворачивают его голову в платок, а тело хоронят у подножия Олимпа. Этот мотив расчленения и обезглавливания героя-жертвы роднит кабирический миф с дионисийским. Кабиров-убийц Велькер отождествляет с титанами, а жертвенного Кабира – с Дионисом-Загре-ем. Преллер отмечает, что происходит слияние дионисийского и кабирического культа (Preller: 708), а Велькер устанавливает соответствие между смертью и захоронением Кабира в Македонии и растерзанием и захоронением Диониса в Дельфах: «Умершего Кабира Климент называет Дионисом, потому что смерть Диониса-Загрея сопоставляется со смертью Кабира как семантически, так и акционально» (Welcker: 254).
Велькер считал этот мистериальный сюжет «самым существенным в теологии Кабиров», религиозным средоточием праздника, который совершался на Лемносе при обновлении огня (Welcker: 250). «Таинства умирающего бога принадлежат Гефестовым Кабирам» (Welcker: 251).
Классические филологи указывают и на другие свидетельства, фиксирующие титаническую природу Кабиров. Так, Преллер отмечает, что в Пергаме Кабиры почитались как дети Урана, то есть относились к одному с титанами поколению богов. «Их (Кабиров. – Л. К. ) называют старейшими среди демонов (πρεσβύτατοι δαιμόνων), которые населяли пергамскую область с незапамятных времен» (Preller: 708). В Лексиконе же Рошера приводится орфическая молитва, где представлены кабирические эпиклезы (θεοί μεγάλοι, δυνατοί, ἰσχυρροί) и называются имена Кабиров, тождественные именам Титанов: Κρόνος, Εἰάπετος etc. (Bloch: 2533).
Итак, в работах немецких классических филологов прослеживается идея взаимосвязи дионисийско-титанического и прометеевско-ка-бирического мифов. Иванов подхватывает ее и разрабатывает в своем ключе, в соответствии со своими мистико-философскими установками. Мистериальный миф о растерзании Диониса титанами используется Ивановым как архетипический сюжет, который продуцирует все мотив-но-образные ситуации в ивановской трагедии, являющиеся видоизменным повторением исходного архетипа. Дионисийско-титанические отношения пронизывают все взаимоотношения действующих лиц трагедии.
Сыны Прометея, подобно Кабирам, антиномически совмещают в себе дионисийское и титаническое начала. Иванов называет их «зачинателями титанической трагедии, именуемой мировой историей» (Прометей: XVII).
История сынов Прометея обнажает богоборческий характер человеческой культуры. Прометей передает своим сынам похищенный небесный огонь, который в контексте трагедии символизирует дух, жизнь, божественную энергию, трансцендентное и истинное, дионисийское. Первым огонь получает Архемор, которого Иванов характеризует как «наиближайшее подобие самого Диониса в семье чад Прометеевых» (Прометей: XVII). Архемор подобен Кабиру-Дионису, приносимому в жертву остальными братьями-титанами в рассмотренном фессалийском мифе. Архат убивает своего благоговейного брата («горящей головней / В костер поверг Архемора» (Прометей: 29)) и силой, титанически, завладевает дионисийским огнем, от которого зажигается жертвенник Прометея, находящийся в его подземной пещере. Однако, едва донеся свой факел до жертвенника во время священного бега с факелами, Архат также умирает, в результате того что Эринния, мстя за Архемора, касается его горящей головней. Иванов так строит символическое повествование, чтобы показать диалектическое перетекание мистико-символических предикатов: сначала Архемор предстает как носитель дионисийского начала, хранитель священного огня и невинная жертва, а Архат – как носитель титанического, затем происходит смена ролей: Архемор предстает как жрец, убивающий брата, а Архат – как жертва. Более того, утверждая свою титанически-богобор-ческую природу, Архат на самом деле служит утверждению божественного начала, поскольку от факела, который он приносит к алтарю Прометея, возжигается подземный жертвенник, который символизирует божественно-дионисийское начало, скрытое внутри титанически-человеческого.
Огонь на тайном жертвеннике Прометея, то есть в средоточии человеческой природы, человеческой культуры, антиномически совмещает в себе священное и греховное начало. Он добывается Прометеем от небесных, трансцендентных богов, однако в результате убийства происходит его осквернение. Он становится греховным и святым одновременно, антиномическим, богоборческим. Прометей говорит: «И соучастье первой этой крови / На нас виной отныне тяготеет» (Прометей: 29). Сыны Прометея разделяют вину Архата. Тут Иванов как будто следует за Вельке-ром, который пишет:
«Окровавленного Кабира община призывает с окровавленными руками, по всей видимости, поскольку все причастились крови жертвы, которая испытывает священную смерть» (Welcker: 253).
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Связь сынов Прометея с Кабирами проливает свет на место действия ивановской трагедии. Родиной Кабиров считался остров Лемнос (Preller: 699; Bloch: 2523), а сами лемносские Кабиры были сыновьями Гефеста, который в контексте античной мифологии отождествлялся с Прометеем [9: 53]. В мастерской Гефеста на Лемносе, расположенной в горе Мосихл, откуда Прометей крадет огонь для людей, происходило, согласно гипотезе Велькера, действие «Прометея-ог-неносца», на которого, как мы уже установили, ориентировался Иванов. Иванов описывает место действия своей трагедии как скалистую местность, омываемую морем. Внутри скал находится пещера, где располагается подземная кузница, в которой трудится Прометей, создавая орудия для человечества.
Согласно мифологической традиции, под Мо-сихлом находился древний храм Гефеста, «в том самом месте, где впервые потек огненный поток и где Прометей, согласно Эсхилу, совершил свою кражу» (Preller: 145).
Лемнос считался местом зарождения мистерий (Preller: 699). Ивановский Прометей как раз и устанавливает первые ритуалы: священный бег, первое жертвоприношение, земледельческие обряды, похоронный обряд. Сыны Прометея становятся первыми посвященными и как бы апостолами его богоборческого учения.
Иванов не называет место действия ни островом, ни Лемносом. По всей видимости, ему важно было сохранить неопределенность, которая позволяла бы объединить черты различных античных локусов, связанных с культом Прометея, Гефеста и Кабиров (Лемнос, Самофракия, Аттика и др.), и сохранить важную для него синкретич-ность.
СЫНЫ ПРОМЕТЕЯ И ТЕЛЬХИНЫ, КОРИБАНТЫ, КУРЕТЫ
По мнению Велькера, кабирическими чертами наделены также такие мифологические персонажи, как Тельхины, Корибанты, Куреты (Welcker: 235). Они образуют единый класс мифологических существ и различаются в первую очередь географической приуроченностью: Кабиры связаны с Лемносом, Корибанты – с Самофра-кией, Куреты – с Критом, Тельхины – с Родосом.
Ивановские сыны Прометея наследуют от синкретического образа Кабиров ряд существенных черт. Подобно Тельхинам, Куретам и Кори-бантам, они являются священниками, жрецами, которые почитают страдающего бога: Тельхи- ны – Апписа или Эпафа, Куреты и Корибанты – Диониса-Загрея, ивановские сыны Прометея – премирного Зевса-Диониса, заключившего в себя сердце Диониса-Загрея.
Сыны Прометея тоже образуют священническую общину. Вместе с Прометеем, который выступает в роли первосвященника, они приносят обманную жертву Зевсу-Крониду (аналог жертвоприношения в Меконе, описанного у Гесиода), но чтут при этом на самом деле трансцендентного Зевса, неведомого бога.
«Нет, мы воздвигнем / Из этих сосен жертвенник высокий; / Я сам зажгу священный пламень, жрец. / Готовьтесь же со мною быть заутра / Для принесенья первой нашей жертвы» (Прометей: 34).
Подобно Тельхинам, которые, будучи жрецами, навлекают на себя гнев Зевса (Welcker: 186–188), сыны Прометея совмещают благочестие и богоборчество. Они чтят Зевса премирного, единого невидимого бога, но при этом отказывают в почитании Зевсу-Крониду, той божественной инстанции, которой отдана власть над земным миром. Сыны Прометея служат огню, который символизирует трансцендентного бога, однако этот огонь они зажигают от факела первого убийцы Архата, тем самым оскверняя его и делая необходимым его очищение через эпифанию нового Диониса.
Кабиры связаны с огненной стихией и изображаются с факелами в руках (Welcker: 235). В качестве огненосцев сыны Прометея предстают и в трагедии Иванова. Они появляются на сцене в процессе ритуального бега с факелами, который повторяет бег Прометея после кражи небесного огня и символизирует преемственность и богоборческий статус человеческой культуры.
Куреты с помощью танца, ударяя мечами о щиты, исполняли священное служение (Welcker: 190). Во время самофракийских мистерий, как и во время мистерий Великой матери богов, совершались экстатические танцы Кабиров – Корибантов возле женской богини (Деметры = Кибелы) под аккомпанемент флейт, кимвалов и литавр. Велькер описывает коллегию Куретов в Эфесе, которая участвовала в танцевальных и жертвенных обрядах на ежегодных празднествах. Сыны Прометея родственны Ку-ретам и в этом отношении. Они тоже совмещают танец и жертвоприношение. Когда Прометей, утомленный своим трудом, засыпает и является Пандора, связанная Кратосом и Бией, сыны Прометея участвуют в общем танце возле алтаря Пандоры, обручатся с нею кольцами, которые надеваются на копья, а затем, когда толпа мужчин и женщин выбирает себе в царицы Пандору и требует казнить Прометея, его сыны вонзают Пандоре в грудь семь копий. Это действие становится одновременно и местью Пандоре за низвергнутого Прометея, и актом любви по отношению к Пандоре, которая низводится под землю Фемидой и отождествляется с подземным огнем – духовным началом бытия, которое охраняют сыны Прометея.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, с содержательной стороны сыны Прометея обладают многими родственными чертами с Кабирами, Корибантами, Куретами, Тельхина-ми, однако нигде в трагедии Иванов не называет подобные мифологические имена, не оставляет прозрачных реминисценций. Вместе с тем обилие сходств между Кабирами и сынами Прометея не оставляет сомнения в наличии соответствующих ритуально-мифологических подтекстов. Объяснение умолчанию Иванова можно искать не только в герметической установке на понимание текста только посвященными, но в самой мифологической сущности Кабиров, которые в культовом отношении были «всего лишь формами, которые принимали в себя любое содержание» (Bloch: 2540). Этот синкретизм «великих богов» мог импонировать Иванову, который в своем творчестве стремился к максимальному синкретизму, обнажающему всеединство сущего.
Список литературы Трагедия Вяч. Иванова «Прометей» в свете исследований культа кабиров в немецкой классической филологии XIX века
- Брюсов В. Я. Вячеслав Иванов. Прометей. Трагедия // Вяч. Иванов: Pro et contra. Т. 1. СПб.: Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2016. С. 396-398.
- Венцлова Т. К вопросу о русской мифологической трагедии: Вячеслав Иванов и Марина Цветаева // Венцлова Т. Собеседники на пиру: Литературоведческие работы. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 106-126.
- Вестбрёк Ф. Фрагмент неоконченной трагедии «Антигона» Вячеслава Иванова // Europa Orientalis. XXI. 2002. 1. С. 170-211.
- Герасимов Ю. К. Неоконченная трагедия Вячеслава Иванова «Ниобея» // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1980 год. Л.: Наука, 1984. С. 178-203.
- Иванов Вячеслав, Зиновьева-Аннибал Лидия. Переписка: 1894-1903. М.: Новое литературное обозрение, 2009. Т. 1. 752 с.
- Лосев А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М.: Искусство, 1976. 367 с.
- Цимборска -Лебода М. Прометей и Пандора, или мифопоэтическая антропология Вячеслава Иванова (на материале трагедии «Прометей») // Mistrzowi i Przyjacielowi. Wroslaw, 2010. С. 149-168.
- Cymborska-Leboda M. «La tradition du feu»: le mythe de Prométhée et sa metamorphose dans la tragédie de Viatcheslav Ivanov Prometei' (Promethée) // Representations er symboliques du feu dans les théatre européens (XVIe - XXe siécle). Paris: Honore Champion, 2013. P. 137-149.
- Duchemin J. Promethee. Histoire du mythe, de ses origins orientales a ses incarnations modernes. Paris: Société d’édition «Les belles lettres», 1974. 218 p.
- Mureddu D. G. The tragedy Prometheus by Vjačeslav Ivanov // Vjačeslav Ivanov.Russischer Dichter -Europäischer Kulturphilosoph. Heidelberg: Universitätverlag C. Winter, 1993. S. 127-162.