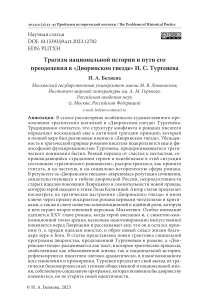Трагизм национальной истории и пути его преодоления в «Дворянском гнезде» Тургенева
Автор: Беляева И.А.
Журнал: Проблемы исторической поэтики @poetica-pro
Статья в выпуске: 3 т.21, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены особенности художественного преломления трагических коллизий в «Дворянском гнезде» Тургенева. Традиционно считается, что структуру конфликта в романах писателя определяет восходящий еще к античной трагедии принцип, который в полной мере был реализован именно в «Дворянском гнезде». Убежденность в трагической природе романов писателя подкрепляется еще и философской фундированностью Тургенева, придерживающегося трагического понимания бытия. Резкий переход от счастья к несчастью, сопровождающийся страданием героев и неизбежным в этой ситуации состоянием «трагического равновесия», распространялся, как принято считать, и на частную, и на социально-историческую сферы романа. В результате за «Дворянским гнездом» закрепилась репутация сочинения, свидетельствующего о гибели дворянской России, непродуктивности старых идеалов поколения Лаврецкого и сомнительности новой правды, которую герой находит в этике Лизы Калитиной. Автор статьи предлагает посмотреть на трагические настроения «Дворянского гнезда» в ином ключе: через призму восприятия романа первыми читателями и критиками, а также в свете сюжетно-композиционной и идейной роли, которую в нем играет второстепенный персонаж Михалевич. Особое внимание уделяется XXV главе романа, когда герой внезапно и, с сюжетно-композиционной точки зрения, несколько немотивированно (искусственно) появляется перед Лаврецким и рассказывает ему, что он и остался прежним (т. е. предан идеалам юности), и обрел новый смысл жизни благодаря вере в Бога. В статье представлена новая трактовка социальной программы дворянства, предложенной Тургеневым в романе, а «Дворянское гнездо» расценивается как текст, в котором трагические процессы, свойственные как обыкновенной жизни, так и национальной истории, рефлексируются» писателем элегико-драматически, в плане возможного восстановления и примирения. Тургенев предлагает свой выход из трагически бескомпромиссных тупиков общественной и национальной жизни, свою социальную программу, которая позволила бы дворянству измениться, но не утерять своей идентичности.
И. с. тургенев, русский роман, дворянское гнездо, поэтика трагического, трагическая коллизия, трагический конфликт, трагическая концепция национальной истории, лаврецкий, михалевич, библейский текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147241102
IDR: 147241102 | DOI: 10.15393/j9.art.2023.12702
Текст научной статьи Трагизм национальной истории и пути его преодоления в «Дворянском гнезде» Тургенева
В научной литературе о творчестве И. С. Тургенева существует традиция рассматривать «Дворянское гнездо» как роман трагического содержания, которое охватывает как частную сферу, так и национально-историческую [Казаков], [Линков], [Маркович, 1982, 1984], [Oudchoorn]. Сформировалась эта традиция далеко не сразу, поскольку современники писателя поначалу вовсе не воспринимали «Дворянское гнездо» в траги.ческом ключе, скорее наоборот. Постепенно к концу XIX в. трагическая оптика применительно к этому роману оказывалась все более востребованной, а в ХХ столетии — магистральной.
Так, в воспоминаниях П. В. Анненкова, над которыми критик работал уже после смерти Тургенева, о «Дворянском гнезде» сказано, что этот роман был «трогательным прощанием устарелых порядков жизни, отходящих в историю»1. В этом прощании явно проглядывали катарсические ноты, когда «все высшие, идеальные <…> потребности и стремления» выставлялись «в лучезарном свете, как это бывает почти всегда и с людьми и с порядками, с которыми современники расстаются навсегда»2. Между тем ранее, сразу после публикации «Дворянского гнезда» в 1859 г., тот же П. В. Анненков в августовском номере «Русского вестника» писал, вполне разделяя общее для критики тех лет мнение, что Тургенев создал книгу, являющуюся «пророчеством близкого обновления»3 общества, и предложил новую для себя художественную стратегию. П. В. Анненков отмечал, что раньше «г. Тургенев был избранный и непревосхо-димый летописец безвыходных положений»4. В фокусе его внимания оказывались ситуации, выражающие «трагическое значение» жизни (в том числе национальной жизни), любви и даже искусства. Но с созданием «Дворянского гнезда» у писателя начинается новая эпоха, наступает «пора преобразования»5, которая обусловлена очень важным и продуктивным для общества процессом «тяжелого создания идеалов жизни на развалинах других идеалов, данных историей»6. Однако в рецепции тургеневского романа закрепился более поздний взгляд П. В. Анненкова, ставший основой для весьма распространенного суждения о том, что «Дворянское гнездо» есть книга о гибели дворянских гнезд, а значит и огромного пласта русской дворянской культуры, трагический итог которой был предрешен.
В той или иной мере эта мысль приобрела в более позднее время устойчивый характер и стала переходить из работы в работу. В качестве примера приведем суждение Марии Оудс-хорн, автора относительно недавнего исследования о поэтике романов Тургенева, которая констатирует это общее настроение в исследовательской среде и пишет о том, что «Дворянское гнездо» «обычно трактуют как роман, в котором основное внимание уделяется трагическому положению людей сороковых годов — потерянному поколению, слишком отмеченному прошлым, чтобы иметь возможность участвовать в будущем России»7 (перевод мой. — И. Б .). Занимаясь исследованием романа, Оудсхорн, однако, пришла к выводу, что в основе трагизма «Дворянского гнезда» лежат не собственно исторические события, а глубинные непримиримые противоречия человеческих желаний и детерминизма судьбы. Но трагическая история России в переломный период 1840–1850-х гг. этими глубинными причинами во многом и предопределяется. В похожем ключе о тургеневском трагизме размышляет и современ ный отечеств енный исследователь А. А. Казаков, который
Трагизм национальной истории и пути его преодоления… 27 полагает, что «И. С. Тургенев склонен считать трагизм некой универсальной основой человеческого существования» [Казаков: 159]. Однако исследователь не исключает и того, что писатель в трагическом ключе передает свое историческое время, поскольку транслирует общую для многих современников ситуацию «самодраматизации», выражающую «своего рода болезнь эпохи» [Казаков: 169].
Наиболее четко концепция трагического в «Дворянском гнезде» была сформулирована в работах В. М. Марковича [Маркович, 1982, 1984], который описал поэтику трагического в романах писателя и предположил, что в основе «Дворянского гнезда» лежит особый «трагизм обыкновенного» [Маркович, 1982: 137]. Восходит он к принципам классической трагедии, предполагающим резкий переход от счастья к несчастью и наоборот. Все это обусловило в «Дворянском гнезде», по мысли исследователя, «"пульсацию" трагических смыслов» [Маркович, 1982: 158], или ситуацию трагического равновесия (см.: [Маркович, 1982: 156]), имеющую самое прямое отношение к историческому моменту, когда «отцы» и «дети» оказались предельно разобщены, что и определило «трагическую концепцию русской истории» [Маркович, 1982: 158]. «Мысль о трагической судьбе целой нации, концентрированно выразившейся в трагической участи независимой русской личности, — пишет В. М. Маркович, — крепла в сознании писателя на протяжении всего "мрачного семилетия" 1848–1855 гг.», т. е. давала о себе знать еще в «Рудине». В полной мере она воплотилась именно в «Дворянском гнезде», что потребовало, по мнению В. М. Марковича, «глубокой перестройки тургеневской поэтики», или «преображения самой жанровой формы реалистического романа», который открыл «в трагичности национальной судьбы необходимую предпосылку ее "вечного значения"» [Маркович, 1982: 134]. Следует отметить, что монография В. М. Марковича вошла в золотой корпус тургеневедения и по сей день остается одной из самых авторитетных книг для специалистов.
Однако интересно, что первые читатели «Дворянского гнезда» — они же собственно и непосредственные участники того самого «трагического равновесия», свидетельствующего, согласно В. М. Марковичу, о неразрешимости общественноисторической коллизии, — в романе Тургенева как раз увидели основу для возможного, явно нетрагического примирения.
Упомянутая выше рецензия П. В. Анненкова так, например, комментировала всеобщий успех «Дворянского гнезда»:
«На новом романе автора сошлись люди противоположных партий в одном общем приговоре; представители разнородных систем и воззрений подали друг другу руку и выразили одно и то же мнение. Роман был сигналом повсеместного примирения и образовал род какого-то литературного trève de Dieu , где каждый позабыл на время свои любимые мнения, чтобы вместе с другими спокойно насладиться произведением и присоединить голос свой к общей и единодушной похвале» 8 .
Всеобщий успех «Дворянского гнезда» в течение как минимум целого года с момента публикации романа, который фиксируют мемуаристы, был обусловлен не только тем, что «некоторые места его <…> сильно действовали на чувства» читателей, а в особенности читательниц: «…сколько чувств было возбуждено им, сколько слез оно стоило читателям и преимущественно читательницам!»9, — но и каким-то объединяющим всех единодушным восторгом. Об этом спустя почти 30 лет сообщает в своих воспоминаниях А. Д. Галахов. По свидетельству мемуариста, речи Тургенева о «Гамлете и Дон Кихоте», произнесенной 10 января 1861 г. в Обществе для вспомоществования нуждающимся литераторам и ученым, предшествовали «рукоплескания», причиной которых была объединяющая представителей разных слоев русского общества любовь к вышедшему год назад «Дворянскому гнезду». А. Д. Галахов пишет:
«Надобно было присутствовать, чтобы понять впечатление, произведенное его выходом. Он долго не мог начать чтение, встреченный шумными, громкими рукоплесканиями, и даже несколько смутился от такого приема, доказавшего, что он был в то время н аш излюбленный беллетрист» 10 .
Первые критики «Дворянского гнезда» искали и находили «благодетельный переворот»11, который был произведен этой книгой в литературе. Так, рецензент «Журнала министерства народного просвещения» А. П. Пятковский в майской книжке за 1859 г. полагал, что Тургеневым был впервые предложен читателю необличительный роман, в котором утверждались созидательные начала жизни. В этом критик был солидарен с Ап. Григорьевым, публиковавшим в журнале «Русское слово» с апреля по август того же года, с небольшими интервалами, одну из самых значительных своих работ «Тургенев и его деятельность. По поводу романа "Дворянское гнездо" (письма к графу Григорию Александровичу Кушелеву-Безбородко)». В статье автор отметил важнейший поворот в творчестве Тургенева, которому дал очень точное «имя», соединив в нем серьезные трансформации, наблюдающиеся в тургеневской поэтике (прежде всего речь идет о новом типе героя), и иные акценты в освещении писателем социально-исторических процессов. Ап. Григорьев назвал этот переворот «нашим душевным Иваном Петровичем Белкиным», отразившим, по мнению критика, важнейший для всей русской литературы и жизни «пушкинский процесс»12. Как полагал Ап. Григорьев, в новом романе Тургенева вся борьба, прежде всего непримиримое противостояние славянофилов и западников, «завершается в поэтических задачах тургеневского типа победою жизни над теориями»13. Мир Лаврецкого теперь устроен так, что ему «нельзя да и незачем разделяться»14. Это предполагает совершенно новое личное, эмоциональное, социальное и историческое качество жизни, очевидно ставящее под вопрос то самое «трагическое равновесие» разделенных общественных групп.
Такова была новая художественная логика романа Тургенева, в котором многие современники увидели продуктивную модель того, как литература отзывается на трагическую непримиримость исторических сил и как она может отрефлексиро-вать онтологическую данность трагического.
При этом, безусловно, Тургенев как никто другой видел трагические основания мироустройства. В его переписке сохранились важные свидетельства тому, что человек подчас не способен или не хочет это признавать, трагедия же поджидает его буквально повсюду. В этой связи справедливо процитировать известное письмо Тургенева от 14 (26) октября 1859 г. к графине Е. Е. Ламберт, одной из самых доверительных его корреспонденток, которое исследователи не без основания рассматривают как ключ к трагической модальности романов писателя конца 1850-х гг. [Маркович, 1982: 166–167]. Тургенев пишет:
«Мне недавно пришло в голову, что в судьбе почти каждого человека есть что-то трагическое, — только часто это трагическое закрыто от самого человека пошлой поверхностью жизни. Кто останавливается на поверхности (а таких много), тот часто и не подозревает, что он — герой трагедии. Иная барыня жалуется на то, что у ней желудок не варит — и сама не знает, что этими словами она хочет сказать, что вся жизнь ее разбита. Например здесь: кругом меня всё мирные, тихие существования, а как приглядишься — трагическое виднеется в каждом, либо свое, либо наложенное историей, развитием народа. И притом мы все осуждены на смерть… Какого еще хотеть трагического?» 15 .
«Речь идет о реальном, жизненном преломлении категории трагического» [Маркович, 1982: 167], — справедливо комментирует эти слова В. М. Маркович, т. е. о жизненных коллизиях как подоснове художественного конфликта и ключевой модальности, хотя реальное и художественное далеко не всегда совпадают16.
Трагическая оптика была всегда интересна Тургеневу. Писатель много размышлял о трагическом не только в конце 1850-х гг., которыми датировано вышеприведенное письмо к Е. Е. Ламберт, но и в 1840-е, и в начале 1850-х. Он действительно видит трагическое в жизни, в любви и в истории17. Первому своему романному герою Рудину Тургенев доверяет писать статью на тему, волнующую и его лично, «о трагическом в жизни и в искусстве», которое невозможно, по признанию героя, без понимания «трагического значения любви» (С5: 250). Кроме того, русскую историю Тургенев тоже склонен был рассматривать в трагическом ключе, о чем свидетельствует его письмо от 16 (28) октября 1852 г. к К. С. Аксакову. В письме заметен полемический посыл, однако высказывания писателя о трагических основаниях русской жизни вполне определенны:
«Я вижу трагическую судьбу племени, великую общественную драму там, где Вы находите успокоение и прибежище эпоса…» (П2: 151).
Между тем признание субстанциальных основ бытия не приводило Тургенева к убеждению о невозможности перехода трагедии в другое качество. В этом смысле любопытен его интерес к раннему сочинению Гете «Природа» («Die Natur», 1782 или 1783), которое Тургенев сам переводил и цитировал в рецензии на книгу С. Т. Аксакова «Записки ружейного охотника»18. Его восхищало наблюдение Гете, согласно которому «природа проводит бездны между всеми существами, и все они стремятся поглотить друг друга. Она всё разъединяет», однако с тем, чтобы «всё соединить…» (С4: 517). Тургенева чрезвычайно занимал этот закон «разъединения и раздробления», действующий в природе и трагический по сути, который тем не менее самой же природой преодолевался. Он удивлялся:
«Как из этого разъединения и раздробления, в котором, кажется, всё живет только для себя, — как выходит именно та общая, бесконечная гармония, в которой, напротив, всё, что существует, — существует для другого, в другом только достигает своего примирения или разрешения — и все жизни сливаются в одну мировую жизнь, — это одна из тех "открытых" тайн, которые мы все и видим и не видим» (С4: 517).
Из трагического разъединения рождается гармония. Но как? Каковы механизмы такой трансформации? Гете давал лишь общий ответ: «Только через любовь можно <…> приблизиться» к гармонии (С4: 517), — не вскрывая, согласно Тургеневу, конкретных шагов преодоления разъединения, особенно если наблюдать уже не исключительно жизнь природы, но жизнь человека в ее социальной, национальной и исторической определенности.
Итак, Тургенев, вслед за безмерно почитаемым им Гете, с одной стороны, понимал и признавал закономерность трагического мироустройства, но с другой — допускал возможность гармонизации крайних начал, в том числе и в социальной жизни, подобно тому, как это происходит в природе. В «Дворянском гнезде» он и предложил возможные пути такой гармонизации, или преодоления трагедийного в национально-исторической и даже в личной сферах — художественными средствами романа.
Обратимся к структуре конфликта «Дворянского гнезда», рассмотрим художественную реализацию актуальной трагической коллизии и роль в этом процессе второстепенного и, на первый взгляд, малозначимого персонажа Михалевича.
Считается, что в «Дворянском гнезде» Тургенев варьирует свою любимую дилемму любви и долга, которая возникает у него в ряде повестей, примыкающих по времени создания к роману и участвующих в его «оркестровке» (Л. В. Пумпянский).
Трагизм национальной истории и пути его преодоления… 33 В «Дворянском гнезде», как и в повести «Фауст», речь идет о катастрофическом разобщении людей и тотальном самоотречении человека, об отказе от «любых "своекорыстных целей"» [Маркович, 1982: 145]. Однако справедливо ли модель разрешения трагической коллизии в повести, признающей действие роковых для человека сил, перекладывать на роман? Вернее увидеть в «Дворянском гнезде» иное отношение к трагической ситуации, о котором, например, писал Ф. П. Федоров. Исследователь отмечал, что если в повести «Фауст» приятию онтологического трагизма довлеет разумность — «долг перед разумом, перед "полезностью"» [Федоров: 78], а трагизм признается неизбежностью, то в основе «Дворянского гнезда» лежит христианская этика (см.: [Федоров: 79]), позволяющая человеку иначе воспринимать трагические законы бытия.
Нас не должно при этом смущать, что у Тургенева были сложные счеты с бесконечностью и, по словам германиста и историка русской литературы Р. Ю. Данилевского, писатель «не нашёл» опоры в Боге «для себя, как нашла её Лукерья из "Живых мощей"», хотя, как полагает ученый, он «нашёл её для своих читателей» [Данилевский: 15], в том числе благодаря тому, что не готов был смириться с отрицанием, как и Фауст, которого он любил цитировать19. В целом если посмотреть догматически на тургеневский «поиск Бога», о котором пишет Р. Ю. Данилевский, или на христианскую этику, с которой мы имеем дело в «Дворянском гнезде», то, конечно, все действия писателя выражают глубочайший религиозный кризис его эпохи. Однако нельзя не согласиться с В. Н. Захаровым в том, что у всей русской литературы, не разделяя писателей по степени их воцер-ковленности, было единое «духовное призвание» [Захаров: 30]. И «Дворянское гнездо» не случайно воспринималось как сочинение, в котором разочарованному Лаврецкому нечего было противопоставить простой этике Лизы, и он «во всем романе робко склоняется пред незыблемостью ее понятий, и ни разу не смеет приступить к ней с холодными разуверениями»20. Однако едва ли Лаврецкий сам стал христианином, проникнувшись доводами Лизы о необходимости прощения и любви. Доверие Лаврецкого к Лизе, его любовь к тому, что дорого ей, не может не убедить читателя в особом значении для героя той самой христианской этики, которой нет в тургеневском «Фаусте».
Этот момент, вероятно, ощущали и современники. Так, Н. А. Добролюбов в статье о романе «Накануне» говорил о Лаврецком как о «возвышенном характере», который принужден, в немалой степени из-за влияния Лизы, «смиряться под ударами рока» ( Добролюбов : 39). Он, таким образом, вполне укладывался в тип «трагического героя»21, но не выдерживал трагической борьбы до конца. Однако такой путь разрешения ситуации критику представлялся «очень скользким» ( Добролюбов : 40). Якобы желая показать, что в герое его романа есть нечто большее, присутствует трагический накал, причем связанный именно с конкретно-историческими процессами, писатель, по мысли Н. А. Добролюбова, «счел нужным ввести в свой рассказ Михалевича, затем, чтобы тот обругал Лаврецкого байбаком» ( Добролюбов : 40), а читатель уверился, что такие люд и, как Лаврецкий, т. е., условно говоря, люди
Трагизм национальной истории и пути его преодоления… 35 сороковых годов22, «теперь уж действительно лишние» ( Добролюбов : 40).
Между тем Михалевич в романе хоть и появляется практически единожды, но далеко не затем, чтобы показать несостоятельность Лаврецкого. XXV глава, в которой показана встреча давних приятелей, свидетельствует о моменте серьезных внутренних изменений. Они уже начали происходить с Лаврецким к тому времени и были выражены в нарративе Михалевича, который говорит о себе, но читатель понимает, что и о Лаврецком тоже. В какой-то мере Михалевича можно считать его травестиро-ванным двойником23, причем комическая модальность в подаче этого персонажа призвана не снизить значение происходящих с Лаврецким трансформаций, а иронически утвердить их высокий смысл.
Михалевич сразу сообщил Лаврецкому, что сам он «в важном, существенном <…> не изменился» и «по-прежнему» верит «в добро, в истину», но не просто верит, а именно «верует» (С6: 74), сопровождая этот значительный момент следующими стихами: «Новым чувствам всем сердцем отдался, / Как ребенок душою я стал: / И я сжег всё, чему поклонялся, / Поклонился всему, что сжигал» (С6: 75), имея в виду историю крещения Хлодвига I. Нечто подобное произойдет и с Лаврецким под влиянием бесед с Лизой, которая невольно убедит Лаврецкого в том, что нужно простить свою жену для того, чтобы и его простили; что необходимо быть христианином «не для того, чтобы познавать небесное… там… земное, а для того, что каждый человек должен умереть» (С6: 82); что ввиду любви к Богу невозможно не любить людей, даже если они и не вполне достойны любви, каким кажется Паншин; что счастье зависит не столько от человека, сколько от Бога и вообще оно без Бога едва ли возможно. И очевидно, что в разочарованном скептике Лаврецком эти простые вещи отзовутся новыми чувствами по отношению даже не столько к Лизе, а к жизни в целом. Поэтому когда Лаврецкий в XXVII главе возвращался от Кали-тиных и «медленно произнес» те самые стихи Михалевича (С6: 85), то он как бы объединился с ним и говорил как о своем новом чувстве к Лизе, так и одновременно признавал в себе важный процесс внутреннего восстановления.
Рассказывал Михалевич Лаврецкому и о счастье.
Счастье в поэтике Тургенева обычно подразумевает фаустовский контекст, свидетельствующий о стремлении человека к полноте бытия, но, как замечал сам писатель по поводу «Фауста» Гете, без опоры в Боге24. Если подходить к роману Тургенева с такой мерой, то только на короткий миг — фаустовский миг — Лаврецкий получает «роскошь» и «незаслуженную милость» (С6: 135) в виде счастья, когда влюблен в Варвару Павловну. Позже, с Лизой, герой хочет повторить это же состояние, но оно оказывается другим. Несколько иной вектор пониманию счастья в романе, но тоже фаустовский в своей основе, чем-то напоминающий максимализм Ивана Карамазова, задает В. М. Маркович, который считает, что «в том мире, которому принадлежат Лаврецкий и Лиза, счастливых людей нет» [Маркович, 1982: 146], потому что «жить среди всего этого», т. е. среди «страдания и лишения, унижения, бедствия и несправедливости, ненаказанных преступлений, неискупленных грехов целых сословий» и «быть счастливым не то, чтобы невозможно, но как-то непозволительно и недостойно» [Маркович, 1982: 146]25. Счастье, по мысли В. М. Марковича, оказалось бы лишь «индивидуальным выходом из общенародной драмы, чем-то вроде внутренней эмиграции» [Маркович, 1982: 146], поэтому герои его и не выбирают. Они, условно говоря, «свой билет на вход» спешат «возвратить обратно»26. Выхода из трагического разъединения к гармонии не намечено.
Казалось бы, что все так. Вот и Лиза в романе сомневается в возможности счастья, но ее сомнения другой природы. Когда она говорит Лаврецкому, что «счастье зависит не от нас, а от Бога» (С6: 140), то она его не отрицает, но задает другой вектор, говорит об ином состоянии счастья, которое не было еще знакомо герою. Михалевич верно укажет на это Лаврецкому. Его прежнее счастье он назовет «самонаслажденьем»: «…ты желал самонаслажденья, ты желал счастья в жизни» (С6: 76). Такое счастье эгоистично, закрыто, интровертно. «Ты хотел жить только для себя…» (С6: 76) — подытожит Ми-халевич. И одновременно он называет себя счастливым человеком.
Рассказывая о новой жизни, ввиду Бога, Михалевич выбирает для описания своего нового состояния, своего нового счастья и новый язык — аллегорический и вспоминает Библию:
«…несколько раз назвал себя счастливым человеком, сравнил себя с птицей небесной, с лилией долины…» (С6: 78).
Здесь отсылка одновременно к Евангелию от Матфея: «Взгляните на птиц небесных; они не сеют, не жнут, не собирают в житницы <…>; Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут» (Мф. 6:26–28), — где говорится о Про-мыслительности27, и к «Песне песней», где слова Христа о Себе: «Я нарцисс Саронский, лилия долин!» (Песн. 2:1), — согласно толкованию Оригена, означают, что «он сделался цветком целого поля, то есть целого мира и всей земли»28. Таким образом, Михалевич говорит о своей новой жизни во Христе и о новом счастье, которое без Бога невозможно, предлагая и Лаврецкому задуматься. Но тот как будто не хочет видеть в словах Михалевича такой подтекст и вспоминает о черной лилии как символе династии Бурбонов. Хотя, конечно, все он видит и понимает.
В целом добродушно-скептическое отношение Лаврецкого к Михалевичу транслирует сложные процессы, которые происходят в душе главного героя романа. Очевидно, что он разочарован и в полной мере еще не может принять христианской этики Лизы (в XXIV главе, т. е. накануне его встречи с Миха-левичем, она робко говорила ему о необходимости прощения жены и о его собственном прощении, но он тогда возмутился такому предложению), однако герой уже не равен себе прежнему. Поэтому и прощальные слова Михалевича в конце их разговора — «религия, прогресс, человечность» — «неотразимо вошли ему в душу, хоть он и спорил и не соглашался» со своим другом (С6: 79). Вывод из всего сказанного и указанного Михалевичем Лаврецкий делает этический: «Будь только человек добр, — его никто отразить не может» (С6: 79), что имеет прямое отношение к той категории добра, которая в романе окружает образ Лизы.
«Последние три слова» Михалевича, сказанные им на прощание, которые так Лаврецкого поразили, представляют собой альтернативу другим известным триадам: лозунгу французской революции — Liberté, Égalité, Fraternité (Свобода, Равенство, Братство); «формуле» официальной народности (Православие, Самодержавие, Народность)29. Только вместо «православия» Тургенев ставит «религию» вообще (не маркирована конфессионально), без которой оказываются невозможны ни «прогресс» — своего рода залог поступательного развития
Трагизм национальной истории и пути его преодоления… 39 общества, ни «человечность» (Тургенев избегает слова «гуман-ность»30), коррелирующая здесь с «народностью».
Нужно сказать, что традиционно исследователи акцент делают на второй части «девиза» Михалевича, т. е. на слове «прогресс», поскольку именно в середине XIX в. в языке «демократической интеллигенции» оно обрело значение «движения вперед» и развития [А<лексеев>, Битюгова, Никонова: 181]. Оно было маркировано западнической тенденцией. Как утверждает В. Я. Линков в книге «История русской литературы XIX века в идеях», «идея прогресса» у Тургенева оказывалась «сродни религии», так она была важна. «Да она фактически и получила статус и стала новой религией сначала общества, а потом и широких масс» [Линков: 32], — пишет ученый. И далее поясняет:
«Разумеется, это была псевдорелигия — идеология, присвоившая не свойственные ей функции» [Линков: 33].
Однако не согласимся с исследователем: у Михалевича подмены не происходит — только взаимодополнение, взаимотол-кование.
Религиозность, согласно Михалевичу, все-таки определяет «прогресс», и герой Тургенева знает наверняка, что без веры как «теплоты сердечной» (С6: 76) невозможно выстроить здание человеческой жизни. Михалевич обвиняет Лаврецкого как раз в том, что его нынешнее незнание, как жить, происходит от отсутствия веры:
«Помещик, дворянин — и не знает, что делать! Веры нет, а то бы знал ; веры нет — и нет откровения» (С6: 77).
И здание его жизни потому рухнуло, что он, по мысли Миха-левича, «искал опоры там, где ее найти нельзя, ибо <…> строил свой дом на зыбком песке…» (С6: 76), вновь вспоминая тем самым евангельские строки31. К вере не столько призывала, но именно «втайне» (С6: 103) хотела привести Лаврецкого и Лиза, без всяких речей и увещеваний — просто своим живым примером.
Третий элемент «формулы» Михалевича — «человечность». Это слово является аналогом «гуманности», хотя и не равно ему. Оно ассоциируется с западнической линией, поэтому сочетается в триаде Михалевича с «прогрессом» и даже подкрепляет его. Об идее гуманности много писал в 1840-е гг. безмерно почитаемый Тургеневым В. Г. Белинский. В соотнесенности с «народностью» как третьим элементом триады графа Уварова оно представляется в еще большей степени отвлеченным понятием, поскольку в нем стираются границы между народными индивидуальностями и речь идет об общих вещах. Тем не менее, согласно словарю В. И. Даля, «гуманность», которая понимается как «человечность, людс-кость», оказывается в восприятии русского человека связана с «благодушием, человеколюбием, милосердием», а также с «любовью к ближнему»32. В такой интерпретации «человечность» уже ближе к «религии», первому элементу «формулы» Михалевича, и корректирует смыслы второго — «прогресса». И хотя в историко-культурной перспективе слово «человечность» (или «гуманность») западнически маркировано, в «Дворянском гнезде» оно наполняется «милосердной» семантикой.
Получается, что «формула» Михалевича эклектична, вбирает в себя противоположные вещи и пусть наивно, но примиряет разрозненные в истории элементы. Герой обрушивает на Лаврецкого эту новую синтезированную идею, которой сам живет и дышит (хотя читатель почти ничего конкретного о нем
Трагизм национальной истории и пути его преодоления… 41 и о его жизни не знает) и которую нельзя в полной мере считать ни западнической, несмотря на наличие слов «прогресс» и «человечность», ни славянофильской33, несмотря на первую и ударную позицию слова «религия» и на признания самого Тургенева в том, что он сделал в романе победителем славянофила. В «Литературных и житейских воспоминаниях» писатель так комментировал эту ситуацию: «Я — коренной, неисправимый западник <…> с особенным удовольствием вывел в лице Паншина <…> все комические и пошлые стороны западничества» и «заставил славянофила Лаврецкого (курсив наш. — И. Б .) "разбить его на всех пунктах"» (С11:88), потому что, как Тургенев далее пояснял, « таким именно образом <…> сложилась жизнь», а он «прежде всего хотел быть искренним и правдивым» (С11: 90) со своим читателем. Тут можно не согласиться с Тургеневым в признании Лаврецкого славянофилом. Скорее, в романе все-таки был предложен именно вариант исторически продуктивного соединения, как писателю тогда казалось, противоположных идейных и социальных установок34. «Трагическое равновесие» идей, таким образом, переходило в ту самую форму таинственной гармонии, которой Тургенев, вслед за Гете, восхищался в природе и которую искал в повседневной жизни.
Социально в романе эта гармония была представлена в сжатом виде в жизненном пути и в «формуле» Михалевича, а в относительно развернутом — по крайней мере, читателю в эпилоге показан интервал в восемь лет — в жизни Лаврецкого, когда он практически жил, руководствуясь интенциями друга: он «действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян» (С6: 157). Тургенев в «Дворянском гнезде» не отрицает существования в обществе конфликта идей, но показывает, что он может быть преодолен, причем не столько «победою жизни над теориями»35, сколько согласием, которое органически свойственно людям, разделяющим эти самые теории, особенно если они искренни и любят.
Конфликт поколений в романе также традиционно прочитывается в трагической системе координат. Как отмечает В. М. Маркович, «сцена встречи двух поколений в эпилоге <…> разрешается своеобразным, по сути своей тоже трагическим, равновесием», представляя «классический вариант трагической ситуации», когда «две правды» оказываются не нужны друг другу, а сама «преемственность поколений не оборачивается у Тургенева <…> духовной связью» [Маркович, 1982: 156]. И пусть молодые обитатели усадьбы Калитиных действительно не так много, как бы читателю хотелось, задумываются о своих «отцах», но разве не живой любовью и сердечным участием к новому поколению пронизаны прощальные слова Лаврецкого, где он, наряду с элегическим признанием своей жизни «бесполезной», благословляет тех, кто идет следом:
«Играйте, веселитесь, растите, молодые силы, — думал он, и не было горечи в его думах, — жизнь у вас впереди, и вам легче будет жить: вам не придется, как нам, отыскивать свою дорогу, бороться, падать и вставать среди мрака; мы хлопотали о том, как бы уцелеть — и сколько из нас не уцелело! — а вам надобно дело делать, работать, и благословение нашего брата, старика, будет с вами (курсив наш. — И. Б. )» (С6: 158).
Поэтому трудно согласиться с тем, что у Лаврецкого нет с молодыми обитателями калитинского дома «никакого душевного контакта и нет стремления обрести такой контакт» [Маркович, 1982: 155]. Когда благословляют — уж точно не равнодушны и не безразличны. А «дети» поймут эту любовь и связь, когда сами станут «отцами». Так о каком же трагическом разрыве поколений идет речь? Наоборот, Тургенев настойчиво ищет пути гармонизации назревающего идейно-поколенческого конфликта. Причем ответственность за эту связь с будущим и за преодоление пропасти он, как и в романе «Отцы и дети», возлагает на «отцов».
Если же говорить о «трагическом значении любви» в романе, то, признавая трагизм неизменным, субстанциальным, Тургенев показывает, что есть и такие качества любви, постепенно открываемой для Лаврецкого Лизой, которые свиде-тельствуюто том, что она «никогда не перестает» (1 Кор. 13:8). Именно этот стих из послания апостола Павла к коринфянам, как утверждают комментаторы академического издания, неточно цитировал Тургенев в статье «Гамлет и Дон Кихот», над которой он особенно усиленно работал в конце 1850-х гг:
«Всё минется, — сказал апостол, — одна любовь останется» (С5: 348).
Однако этот аспект «нетрагического» значения любви в романе требует отдельного освещения.
Тургенев в «Дворянском гнезде» предлагает читателю следующий выход: отказ от крайностей и, как бы мы сейчас сказали, идейный компромисс . Поэтому, вероятно, роман всем полюбился и был принят даже теми современниками, которые находили в произведении некоторые изъяны. «Дворянское гнездо» — это не уступка славянофилам со стороны писателя и тем более не отказ от западнических идей, это художественное изучение возможностей согласия между ними, согласия , которым — Тургенев это знал точно — любое жизненное и национально-историческое противоречие может быть преодолено, подобно тому, как это происходит в природе. Роман Тургенева предлагал сценарий «восстановления» (Ф. М. Достоевский), или «пробуждения» (И. А. Гончаров) как отдельного человека, так и общества в целом, к чему стремился и весь русский классический роман XIX в. Трагическая коллизия, имевшая место в русской жизни, разрешалась в художественной оптике «Дворянского гнезда» в элегико-драматической модальности, что предполагало сложный личный выбор героями разрешения противоречий и отрицало неизбежность исторической катастрофы.
Список литературы Трагизм национальной истории и пути его преодоления в «Дворянском гнезде» Тургенева
- А М., Битюгова И. А., Никонова Т. А. Лексикологические заметки к текстам Тургенева // Тургеневский сборник. Материалы к Полному собранию сочинений и писем И. С. Тургенева. Вып. 3. Л.: Наука, 1967. С. 167-184.
- Данилевский Р. Ю. "..В отношении к Богу я придерживаюсь мнения Фауста" (еще раз о верее И. С. Тургенева) // Спасский вестник. 2011. № 19. С. 12-15. EDN: TBXTOX
- Жаккар Ж.-Ф. "Я все знаю": Предварительные заметки об идейно-зеркальной композиции "Дворянского гнезда" И. С. Тургенева // И. С. Тургенев: текст и контекст. СПб.: Скрипториум, 2018. С. 88-96.
- Захаров В. Н. Православные аспекты этнопоэтики русской литературы // Проблемы исторической поэтики. 1998. Вып. 5. С. 5-30 [Электронный ресурс]. URL: https://poetica.pro/journal/article.php?id=2472 (12.05.2023). DOI: 10.15393/j9.art.1998.2472 EDN: RUYKBH
- Казаков А. А. Проблема трагического в творческом мире И.С. Тургенева в полемическом восприятии Ф. М. Достоевского // И. С. Тургенев и время. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2019. С. 159-169. EDN: SAKCRU
- Линков В. Я. История русской литературы XIX века в идеях. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 192 с.
- Маркович В. М. Между эпосом и трагедией: О художественной структуре романа И. С. Тургенева "Дворянское гнездо" // Проблемы поэтики русского реализма XIX века. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. С. 49-76.
- Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30-50-е годы). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. 208 с.
- Федоров Ф. П. Фаустиана Ивана Тургенева // Филологические чтения: 2005. Даугавпилс: Saule, 2006. С. 56-81.
- Oudshoorn M. The Poetics of Superfluity. Narrative and Verbal Art in the Novels of Ivan Turgenev. Groningen, 2006. 176 p.