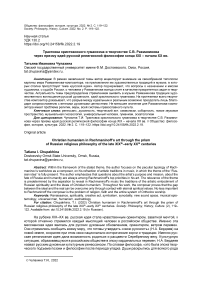Трактовка христианского гуманизма в творчестве С.В. Рахманинова через призму идей русской религиозной философии конца XIX - начала ХХ вв
Автор: Чупахина Татьяна Ивановна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 2, 2022 года.
Бесплатный доступ
В рамках заявленной темы автор акцентирует внимание на своеобразной типологии картины мира Рахманинова-композитора, на преломлении им художественных традиций в музыке, в которых сполна присутствует тема «русской идеи». Автор подчеркивает, что вопросы о назначении и миссии художника, о судьбе России, о человеке у Рахманинова всегда стоят в качестве приоритетных задач в творчестве. Актуальность темы предопределена стремлением выявить в музыке Рахманинова традиции художественного воплощения русской духовности, идей христианского гуманизма. На протяжении всего творчества композитор доказывает, что разрыв между идеальным и реальным возможно преодолеть лишь благодаря соприкосновению с вечными духовными ценностями. Не меньшее значение для Рахманинова-композитора имеет проблема религии, веры, всей системы православного культа.
Ренессанс, духовность, творческий акт, символизм, соборность, новое звуковое пространство, музыкальная гносеология, универсальный человек, гуманизм, эсхатологизм
Короткий адрес: https://sciup.org/149138918
IDR: 149138918 | УДК: 130.2 | DOI: 10.24158/fik.2022.2.19
Текст научной статьи Трактовка христианского гуманизма в творчестве С.В. Рахманинова через призму идей русской религиозной философии конца XIX - начала ХХ вв
мистических веяний, и положительных, и отрицательных. Никогда еще не были так сильны у нас всякого рода прельщения и смешения. Вместе с тем русскими душами овладели предчувствия надвигающихся катастроф. Поэты видели не только грядущие зори, но и что-то страшное, надвигающееся на Россию и мир» (Бердяев, 1998: 412). Национальная идея, соборное единение, борьба за независимость личности, единение правды и веры, предчувствие грозовых раскатов и грядущих бурь, появление новой чувствительности, смена ценностных парадигм, нового формата мышления, нового кода ощущений – в этих ключевых понятиях для нас проявляется главная философская идея творчества многих отечественных художников, творивших в рубежную эпоху, объединяющая и сближающая их в единую творческую концепцию уникальности русского духа.
Приведем высказывания Вяч. Иванова, дающие свой определенный взгляд на культуру Серебряного века: «Россия выделила из себя критическую культуру и, сохранив в низинах остатки иной, примитивной культуры, не дает успокоиться нашим сердцам в этом разъединении… Критическая культура высвобождает энергии, скрытые в косности культуры примитивной» (Иванов, 2007: 229).
В эпоху русского духовного ренессанса тема «веры в народ как хранителя правды» в творчестве композиторов русской школы отходит на второй план, забота о красоте, поиск идеала, томление, грезы, мечты о новой жизни становятся важнее этических устремлений.
Результатом сложившейся духовной ситуации в России явилось формирование в среде русской интеллигенции проповеднического дискурса, восходящего к христианской традиции. Таким образом, «…культура рубежного периода («русский духовный/культурный ренессанс»), – по словам А.А. Ароновой, – сгенерировалась из полярных мировоззренческих течений. Первое – на основе христианского гуманизма – установка на Богочеловека. Второе – на основе светского Че-ловекобога» (Аронова, 2016: 24).
С.В. Рахманинов представляется нам одним из самых выдающихся художников эпохи Серебряного века. Это была знаковая фигура, отличающаяся своей универсальностью художественного сознания, воплотившая лучшие традиции русского эллинизма. Художник, имеющий эстетическую потребность, был способен пребывать в абсолютной гармонии со средой и надличным миром. Подобную потребность он сохранял на протяжении всей своей жизни как некое важное условие своего существования в искусстве и духовном развитии. И это как раз одно из индивидуальных свойств музыки Рахманинова.
Однако эта же потребность явилась эсхатологическим мироощущением художника и привела его к уникальному интегративному стилю. Эсхатологизм личности Рахманинова – это, прежде всего, характер России, Русского мира. Поэтому музыке художника свойственна глубокая почвенность. Русский художник непримиримо боролся против духовного рабства, творческой слепоты, ограниченности и косности сознания, способного лишь на создание дешевых копий и клише, примитивного репродуцирования готовых, давно привычных образов-символов.
Как «универсальный человек» Рахманинов воплотил основные черты возрожденческого гуманизма (гуманисты создали свой идеал человека) (Аронова, 2016: 26), считая человека центром Мироздания, способного к огромному духовному росту и просветлению. Поэтому в творческом акте художника с христианским сознанием мы наблюдаем торжествующую трансформацию того, как «духовный распад личности», «духовная нищета» всегда преображаются в Веру, Гармонию, Истину и Красоту.
Софийный образ «Руси», «русской святости» и «русской духовности» в его опусах не стоит на коленях перед силами тьмы, а преображается в небесный, софийный лик. В произведениях Рахманинова образ русской земли называется и понимается как «территория Бога», «территория Любви». Пожалуй, ему одному впервые удалось открыть миру «русское бытие» во всей его полноте ощущений. Тут важно отметить, что многие исследователи называют рахманиновскую музыку «звенящей русской темой», «темой Руси». Ибо в его музыкальной философии ярко проявляется «субстанция русского» (по М. Хайдегеру).
Так, в крупномасштабных, монументальных произведениях художника нам слышны раскатистые колокольные перезвоны русских церквей, предчувствия и предвестия мировой катастрофы, берущие свой исток от религиозных философских представлений и умозрений Рахманинова. Он не мыслил себя и свою музыку в отрыве от достояний русской православной культуры. Отсюда его христианский гуманизм, восходящий к идеям Апокалипсиса. «Он не раз использовал тему Dies irae – символа смерти, страшного суда, пришедшего к нам из глубины веков. Этот символ мы слышим в Первой и Третьей симфонии; Рапсодии на тему Паганини; симфонической поэме “Остров мертвых”; в поэме для оркестра, солистов и хора “Колокола”» (Чупахина, 2010: 139).
Русскому художнику был очевидным и естественным переход из кризисного состояния культуры и искусства рубежной эпохи в «религиозное преображение внешнего и внутреннего мира» (Н.А. Бердяев). Вл. Соловьев называет такой переход творческим процессом, а следом и
Н.А. Бердяев подобное преображение трактует как теургию. Общность умозрений отечественных мыслителей приводит нас к основной христианской теме о Богочеловечестве (Вл. Соловьев).
«Теургия, – согласно философской концепции Н.А. Бердяева, – это и есть совместное творчество с Богом, со-творчество – богодейство, богочеловеческое творчество. Теургический акт – это, по сути, призыв самого Бога к религиозному творческому действованию, ведь творчество само по себе априори софийно. Идея Бога есть величайшая человеческая идея. Идея человека есть величайшая Божья идея. Человек ждет рождения в нем Бога. Бог ждет рождения в Нем человека» (Бердяев, 1998: 458).
Русский поэт-символист Вяч. Иванов трактует символизм по-своему: «Символизм – не творческое действие только, но и творческое взаимодействие, не только художественная объективация творческого субъекта, но и творческая субъективация художественного образа (Иванов, 2007: 385).
Поэтому мы по праву можем считать искусство символизма своеобразным мостом, связывающим нас с рождением новой реальности, новой жизни со своей жизненной программой, с ее новыми духовными ориентирами, дающими заявить Создателю, что теург – это тот, кто творит по закону Божьему и во имя Его.
Творя новую звуковую реальность, Рахманинов охотно принял идею символизма как совершенно обновленное средство музыкальной выразительности. Его звучащая философия обрела неповторимое лицо. Художник допускал, что «наличный мир архитипичен, он и есть символическое выражение творческого акта, и также вечен в силу созвучности с божественной сущностью» (Купарашвили, 2003: 195–196).
Важно помнить, что символическое искусство имело дело только с самим человеком. Поэтому Рахманинова как художника-гуманиста волновала внутренняя напряженная духовная жизнь личности, ее мысли о вечности Мироздания, о смерти как уникальной неизбежности, об отношении к Богу. Так, в музыкальной гносеологии Рахманинова, как и в отечественной культуре, постепенно «…формируется естественный сплав веры и искусства, религиозного и эстетического, светского и духовного начал в единой плоскости умозрения» (Чупахина, 2010: 60).
Размышляя о «музыкальной философии жизни» Рахманинова, природе его творческого начала (эмморфоза), получившее свое развитие в реалистическом символизме, и о преобразовательном (метаморфоза) начале, превращенном в «идеалистический символизм», мы видим, как по-разному выступает и меняет символ свой смысл и лик. Если это идеалистический символизм, где большая роль отводится психологической игре, которую затеял сам композитор, – символ выступает в качестве средств художественной выразительности, способных установить диалог разобщенных, несвязанных между собой сознаний индивидов (музыкальная иллюстрация: Рапсодия на тему Паганини a-moll, op. 43; Второй концерт для фортепиано с оркестром c-moll; Музыкальный момент cis-moll; Музыкальный момент e-moll; Вокализ ор. 34, симфоническое произведение «Остров мертвых» ор. 29; Третий концерт для фортепиано с оркестром; симфоническая поэма «Колокола» на стихи Эдгара По в переводе К. Бальмонта ор. 35; «Симфонические танцы»). Однако в творчестве Рахманинова встречаются произведения, где символ можно трактовать и как начало, и как связующую нить этих разделенных сознаний; она одновременно и «перегородка», и цементирующее начало. Примером реалистического символизма у Рахманинова может выступать хор как символ соборного единения. Приведем известное изречение Вяч. Иванова о хоре: «Хор сам по себе уже есть символ – чувственное ознаменование соборного единомыслия и единодушия, очевидное свидетельство реальной связи. Сомкнувшей разрозненные сознания в живом единстве… Хор – постулат нашего эстетического и религиозного credo…» (Иванов, 1994: 160).
«Соборное сознание композитора предполагает категорию соборности в крупных монументальных хоровых жанрах, хоровых действах толковать как органическое сочетание частного и всеобщего, единого и разнообразного. Соборность как чисто русское явление есть солидарность, единство многообразия души, духовных помыслов, чаяний и действований. Аксиологические характеристики соборности совпадают с высшими ценностями христианского верования, органично вытекая из истоков христианского вероучения», к которым был сопричастен композитор (Чупахина, 2010: 51).
Музыкальными иллюстрациями в произведениях Рахманинова, где символ выводит человека из внутреннего мира его собственно сознания, онтологически соединяя с внешним надличным миром, той объективной реальностью, которая находится вне конкретных вещей и явлений, где царит мир идей и осуществляется все мировое космической жизни, можно назвать «Всенощное бдение», «Светлый праздник», «Литургию св. Иоанна Златоуста», духовный концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу», «Пантеля-целителя», «Отче наш». В этих произведениях особенно проступает эсхатологическое чувство, поскольку в них зафиксирована точка зрения художника на проблему жизни и смерти, чувство приближающейся гибели мира. Здесь символ как носитель духовных смыслов обретает наиболее адекватный характер. Смысл символа Рахманинова, будь то образ Родины, образ Матери-Земли, всегда многоуровневый и многоликий, поскольку в него включаются различные историко-культурные смысловые грани.
Так, воплощенные образы в поэме «Колокола» символизируют циклы бытия человека – его рождение, жизнь и смерть. Смерть у художника представляется как запланированный символический акт в переходе к вечности. Ибо рахманиновское понимание христианства всегда по своей сути эсхатологическое. Отсюда в символизме Рахманинова отсутствует некая оторванность личности, ее индивидуального человеческого бытия от универсальной целостности бытия комического.
И здесь мы находим созвучные мысли композитора с его современником – поэтом-символистом Вяч. Ивановым: «Символ только тогда истинный символ, когда он неисчерпаем и беспределен в своем значении, когда он изрекает на своем сокровенном (иератическом и магическом) языке намека и внушения нечто неизъяснимое, неадекватное внешнему слову. Он многолик, многословен и всегда темен в последней глубине. Он – органическое образование, как кристалл. Он даже некая монада и тем отличается от сложного и разложимого состава аллегории, притчи и сравнения» (Иванов, 1994: 141).
Так был рожден новый лик русского романтизма, проявленный в творчестве Рахманинова как символизм, предсказавший «религиозное преображение» мира.
Музыкальное наследие Рахманинова можно назвать социально-философским феноменом русской музыкальной культуры конца XIX – начала ХХ вв., который открыл будущим поколениям композиторов возможность создания новой музыки, сопричастной христианскому миропониманию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что символическое искусство Рахманинова ведет нас к утраченной части целого в русском человеке. Оно связывает нас, потерянных, отчужденных и разобщенных, духовными узами, божественными силами; дает жизненные ориентиры, укрепляет наше пребывание в Боге на Земле.
Список литературы Трактовка христианского гуманизма в творчестве С.В. Рахманинова через призму идей русской религиозной философии конца XIX - начала ХХ вв
- Аронова А.А. Предпосылки и причины появления "ренессансного типа личности" в России в конце XIX - начала ХХ веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 4 (72). С. 23-28.
- Бердяев Н.А. Самопознание. М.; Харьков, 1998. 620 с.
- Иванов В. По звездам. Борозды и межи. М., 2007. 1139с.
- Иванов В. Родное и вселенское. М., 1994. 428с.
- Купарашвили М.Д. Сумма трансценденталий. Гносеология разума. Ч. 2. М.;Омск: Омск. гос. ун-т, 2003. 320с.
- Чупахина Т.И. Философия русской музыки Золотого и Серебряного веков: моногр. Омск: Наука, 2010. 224с.