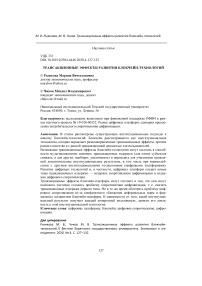Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий
Автор: Рыжкова Марина Вячеславовна, Чиков Михаил Владимирович
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены существующие институциональные подходы к анализу блокчейн-технологий. Блокчейн рассматривается как институциональная технология, которая порождает разнонаправленные трансакционные эффекты, причем разного качества и с разной трансакционной ценностью для пользователей. Возможные трансакционные эффекты блокчейн-технологии могут состоять в способности мультипликативно изменять трансакционные издержки (для одних субъектов снижать, а для других, наоборот, увеличивать) и порождать для участников трансакций дополнительные институциональные результаты, в том числе при взаимодействии с другими институциональными технологиями (цифровыми платформами). Развитие цифровых технологий и, в частности, цифровых платформ создает новые типы трансакционных издержек - издержек сопротивления цифровизации и издержек цифрового сопротивления. Трансакционные эффекты блокчейн-платформ могут состоять в том, что они могут позволить частично сгладить проблему сопротивления цифровизации, т. е. снизить трансакционные издержки первого типа. Но в то же время обострить проблему цифрового сопротивления из-за конфликтного сближения неформальных норм и формальных алгоритмов блокчейн-платформ. В зависимости от того, какой институциональный результат получает каждый конкретный пользователь, зависит его лояльность к этой институциональной технологии.
Цифровые платформы, блокчейн, цифровое сопротивление, цифровизация
Короткий адрес: https://sciup.org/148316399
IDR: 148316399 | УДК: 331 | DOI: 10.18101/2304-4446-2020-4-127-132
Текст научной статьи Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий
Рыжкова М. В., Чиков М. В. Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2020. № 4. С. 127–132.
В современных экономических исследованиях все активнее обсуждаются последствия развития блокчейн-технологий для экономических систем. Будучи цифровой технологией, позволяющей за счет ведения распределенных реестров и алгоритмов консенсуса осуществлять децентрализованные трансакции между равноправными участниками, блокчейн порождают глубокую цифровую трансформацию. Выступая как альтернативный инструмент легитимации трансакций, он побуждает многие крупные корпорации трансформировать свои бизнес-модели и переходить на блокчейн-платформы [1], а правительства — активно принимать стратегические документы по регулированию национальных систем блокчейн [2].
Потенциал изменений, которые порождает данная технология для режимов функционирования современных рынков, настолько значителен, что влечет за собой и переформатирование существующих исследовательских парадигм, способных осмыслить ее как новую фундаментальную институциональную технологию [3]. Институциональная природа блокчейна не сводится просто к специфическому институту посредничества, она более сложна и неоднозначна. Поэтому можно согласиться с исследователями, которые считают, что традиционные подходы институционального анализа ограничены в понимании природы блокчейна, поскольку не способны описывать сложные и многомерные явления [4].
В попытке осмыслить теоретические и методологические основания блок-чейн-технологий исследователи с разной степенью глубины раскрывают новые особенности их функционирования. Общим основанием в этих исследованиях является акцент на то, что они обеспечивают минимизацию трансакционных издержек, повышают эффективность экономических деятельности, устраняют необходимость посредников и фактически выступают альтернативным (рынку, фирме, государству) способом координации экономической деятельности [3].
Апеллируя к позиции сторонников теории трансакционных издержек, Д. П. Фролов в то же время указывает на ограниченность понимания институциональной природы блокчейна только с позиции минимизации трансакционных издержек и устранения посредничества. По его мнению, блокчейн-технологии не только снижают трансакционные издержки, но и способствуют увеличению трансакционной ценности для экономических субъектов за счет появления новых позитивных трансакционных эффектов на базе блокчейна [4]. Иными словами, речь идет о том, что институциональные технологии, обслуживающие процесс осуществления любой трансакции, помимо ее основного результата генерируют сопутствующий институциональный результат. И экономия на трансакционных издержках может быть лишь малой частью этого результата. Чтобы описать этот результат, следует раскрыть сложную природу блокчейна в логике порождаемых им трансакционных эффектов.
Сложность блокчейна как институциональной технологии состоит в том, что она вплетается в институциональную ткань современной экономики, трансформируя саму трансакционную механику (архитектуру трансакции) по многим формирующим основаниям. В соответствии с подходами институциональной теории в качестве таких оснований трансакции лежит перемещение ресурсов (в том числе информации) или санкционированных прав собственности [5; 6]. Следовательно, для осуществления рыночной трансакции необходимо понести, прежде всего, информационные издержки. Механика совершения трансакции предполагает, что ее участники не могут знать, с кем и на каких условиях она будет совершена, поэтому информация распределяется асимметрично и является очень дорогой [7]. В этой логике полная информация становится для участников трансакции бесконечно дорогой, поэтому контракты, которые они заключают для совершения сделки, должны быть неполными и оставлять некоторую степень неопределенности.
Как тогда осуществляется легитимация рыночных трансакций, т. е. как достигается консенсус между участниками сделки? Ключевым фактором здесь выступает доверие между участниками обмена и, прежде всего, к централизованному регистратору сделки (к государству как гаранту). Соответственно в экономических системах, где механизмы доверия слабо развиты (не эффективны), их поддержание обходится участникам трансакции очень дорого, поскольку вынуждает их предъявлять дополнительный спрос на посредников, вследствие чего трансакционный сектор разрастается.
С точки зрения теории трансакционных издержек развитие блокчейн-технологий приводит к обратному сдвигу, когда централизованный метод достижения консенсуса заменяется распределенным подходом к консенсусу, основанном на бесплатном доверии к самому протоколу блокчейна и лежащим в его основе алгоритмам. Тем самым изменяется формирующее основание трансакции, поскольку блокчейн обеспечивает консенсус без доверия и потому способен устранить посредничество как таковое [3]. В этой логике лежащая в основе любой трансакции конфликтность, основанная на неполноте информации, также должна ослабевать.
Однако описанные изменения в трансакционной механике могут быть также неполными, поскольку, как полагает Д.П. Фролов, блокчейн вряд ли устранит полностью посредников. Скорее речь идет об их сокращении и усилении конкуренции между ними в части способности генерировать дополнительную трансакционную ценность [4]. В дополнение к этому тезису следует отметить, что блокчейн как институциональная технология создает дополнительный эффект не только для каждой отдельно совершаемой трансакции (например, на сделки по получению кредита), но и мультипликативно распространяется на смежные трансакции, повышая их качество (например, на сделки по купле-продаже товара через блокчейн-платформу и пр.) и сокращая трансакционный сектор экономики.
Таким образом, один из возможных трансакционных эффектов блокчейн-технологии может состоять в способности мультипликативно изменять трансакционные издержки (для одних субъектов снижать, а для других, наоборот, увеличивать) и порождать для участников трансакций дополнительные институциональные эффекты, в том числе при взаимодействии с другими институциональными технологиями (цифровыми платформами).
Например, развитие цифровых технологий и, в частности, цифровых платформ создает новые типы трансакционных издержек — издержек сопротивления цифровизации и издержек цифрового сопротивления [8]. Первый тип издержек возникает из-за неготовности экономического агента (чаще всего из-за ценностных соображений) вообще взаимодействовать с цифровыми технологиями. Вследствие чего он несет дополнительные издержки взаимодействия, особенно в ситуации, когда институциональная инфраструктура подталкивает его к этому взаимодействию. Второй тип издержек возникает из-за «провалов» самих цифровых платформ и заложенной в них конфликтности, когда цифровая платформа, в том числе из-за сетевого эффекта, не способна оптимально скоординировать взаимодействия участников трансакций и создать равные для всех условия (например, равные условия доступа к платформе). Сбои в платформенном механизме может порождать несовершенство рейтинговых систем оценки репутации [9].
Построение цифровых платформ на базе блокчейн-технологий способно частично сгладить эти противоречия и сгенерировать дополнительные трансакционные эффекты. В частности, лежащие в основе цифровых платформ сетевые эффекты способны обеспечить прирост трансакционной ценности для каждого из участников через формирование новых механизмов доверия. Однако бесплатное доверие («сверхдоверие») к алгоритмизированным механизмам блокчейна, с одной стороны, и возможные «провалы» цифровых платформ, с другой стороны, могут потребовать формирования более сложных механизмов доверия в случае взаимодействия этих двух технологий.
Трансакционные эффекты блокчейн-платформ также состоят в том, что они могут позволить частично сгладить проблему сопротивления цифровизации, т. е. снизить трансакционные издержки первого типа. Блокчейн как технология, не требующая доверия, устраняет необходимость в мощных централизованных механизмах контроля, поскольку криптографически защищенные технологии являются безопасными от враждебных действий третьих сторон.
В то же время может обостриться проблема цифрового сопротивления, поскольку здесь может возникнуть дополнительная конфликтность из-за сближения неформальных норм и формальных алгоритмов блокчейн-платформ. Такие платформы вряд ли смогут полностью устранить проблему доверия, поскольку источники конфликтности могут быть разными. Конфликтность может состоять в том, что, предвосхищая потребности каждого конкретного пользователя блок-чейн-платформы (в том числе используя технологии искусственного интеллекта, машинного обучения и пр.) и предлагая на этой основе персонализированные предложения, может возникнуть дополнительное цифровое сопротивление, основанное на страхе цифрового «сверханализа». Когда блокчейн-платформа знает о предпочтениях пользователя больше, чем сам пользователь знает о себе, то это может стать для него основанием к сопротивлению (например, преднамеренно искажать информацию о себе). Именно поэтому мы говорим о необходимости формирования специфических механизмов доверия в таких сложных и неоднородных институциональных системах.
Обобщающий вывод из анализа блокчейн-технологий может состоять в том, что, будучи очень сложной институциональной технологией, она порождает разнонаправленные трансакционные эффекты, причем разного качества и с разной трансакционной ценностью для пользователей. В зависимости от того, какой институциональный результат получает каждый конкретный пользователь, зависит его лояльность к этой институциональной технологии.
Список литературы Трансакционные эффекты развития блокчейн-технологий
- Rajiv L., Johnson S. Maersk: Betting on Blockchain. Harvard Business School Case 518-089, April 2018.
- Эльмурзаева Р. А., Скрыльникова Н. А. Подходы к государственному регулированию национальной системы блокчейн // Экономика и управление инновациями. 2019. № 4(11). С. 50-56.
- Davidson S., De Filippi P., & Potts J. Blockchains and the economic institutions of capitalism // Journal of Institutional Economics. 2018. 14(4). Р. 639-658.
- Frolov D. Blockchain and institutional complexity: an extended institutional approach // Journal of Institutional Economics. 2020. 1-16. DOI: 10.1017/S1744137420000272
- Commons J. R. Institutional Economics // Its Place in Political Economy. Macmillan. New York, 1934. Р. 58.
- Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. Достижения новой институциональной экономической теории: пер. с англ. / под ред. В. С. Катькало, Н. П. Дроздовой. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун та, 2005. ХХХ!У. С. 59.
- Паркер Дж., Альстин М. ван, Чаудари С. Революция платформ. Как сетевые рынки меняют экономику - и как заставить их работать на вас / пер. с англ. Е. Пономаревой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. С.77.
- Рыжкова М. В., Чиков М. В. Институциональная природа цифровых платформ // Вестник Бурятского государственного университета. Экономика и менеджмент. 2019. № 4. С. 72-80.
- Querbes A. Banned from the sharing economy: an agent-based model of a peer-to-peer marketplace for consumer goods and services // Journal of Evolutionary Economics. 2018. 28(3). Р. 641.