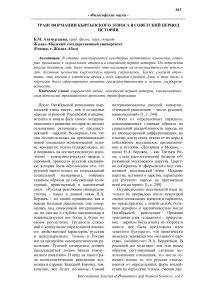Трансформации кыргызского этноса в советский период истории
Автор: Атамурзаева Б.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 7 (22), 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются некоторые позитивные изменения, которые произошли с кыргызским этносом в советский период истории. По истечении многих десятков лет, было очевидно, что несмотря на коммунистическую идеологию, духовные ценности кыргызского народа сохранились. Также следует отметить, что именно в советское время у всех народов Средней Азии, в том числе и кыргызов было сформировано понятие гражданственности и основы государственности.
Кыргызский этнос, советский период истории, коммунистическая идеология, традиционные ценности, трансформация
Короткий адрес: https://sciup.org/170185352
IDR: 170185352
Текст научной статьи Трансформации кыргызского этноса в советский период истории
После Октябрьской революции кыргызский этнос также, как и остальные народы огромной Российской империи, вступил в новую фазу своего модернизационного развития, которая во многих отношениях отличалась от предшествующей - царской. Во-первых, тем, что она осуществлялась на принципиально новой социально-экономической основе, которая не только подкреплялась, но и опиралась на соответствующую идеологию - коммунистическую, правда, с огромной примесью русской специфики, которая была обусловлена тем, что русский народ пошел на колоссальный социальный эксперимент, опираясь главным образом на собственный культурный, нравственный и ценностный опыт. «Русская революция универсали-стична, - писал в данной связи Н.А. Бердяев, - по своим принципам, как и всякая большая революция, она совершалась под символикой интернационала, но она же и глубоко национальна и национализуется все более и более по своим результатам. Трудность суждений о коммунизме определяется именно его двойственным характером, русским и международным. Только в России могла произойти коммунистическая революция. Русский коммунизм должен представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы, там, конечно, все будет по-иному. Самый интернационализм русской коммунистической революции - чисто русский, национальный» [1, с. 244].
Отказ от определенных парадигм, основывавшихся главным образом на социальной раздробленности народа, на их имущественной дифференциации, не означал для русских отказа от их веры в собственное мессианское предназначение в истории. «Доктрина о Москве, -писал Н.А. Бердяев, - как Третьем Риме, стала идеологическим базисом образования московского царства. Царство собиралось и оформлялось под символикой мессианской идеи. Искание царства, истинного царства, характерно для русского народа на протяжении всей его истории» [1, с. 249].
Осуществление мессианской идеи не только не прервалось после некоторой смены социальных идеалов и парадигм, но продолжилось с новой силой, большим напором и настойчивостью после Октябрьской революции. Прежняя триединая идея «славянизм - православие - царизм» была изъята из оборота и вместо нее была предложена идея «светлого будущего», что практически являлось эквивалентом «истинного царства», упомянутого Н.А. Бердяевым. В реальной же политике, тем или иным образом регулирующей сложные межэтнические отношения, это могло означать только то, что русские отказываются от определенных форм воздействия на нерусские этносы, сменив дан- ные формы сообразно реальности на другие, но никак не от основополагающей геополитической идеи уподобления себе – ассимилятивной идеи, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Для кыргызского этноса это могло означать только продолжение трансформационных процессов, начатых в царское время, в которых исконные его ценности должны были быть устранены или во всяком случае растворены либо адаптированы под новые – русского происхождения. Таким образом, со сменой режима в России изменились только формы политики, но не ее общая направленность, исходный ассимиляторский подход, принцип. Для малочисленного кыргызского народа, не способного эффективно противостоять напору и воздействию более могущественных народов, принципиальным становился вопрос не последствий данного воздействия, а конкретных его форм, поскольку некоторые из них могли носить неприемлемый и весьма болезненный характер (как, к примеру, политика апартеида, расовой дискриминации).
Вследствие того, что это «светлое будущее» должно было настать для всех, то для того, чтобы заручится поддержкой всех, пришлось ввести в оборот и затем активно использовать идею интернационализма, для которой наилучшим образом подходила марксистская теория, базировавшаяся на признании социальной ценности и значимости человека и игнорировании его этнической принадлежности и специфики. Для такой полиэтнической страны, как Россия, такая теория была вполне подходящей, особенно в связи с возможностью устранения в обществе и государстве социальных различий и противоречий, как и подобает в «истинном царстве».
В программном, по сути, документе «Манифесте Коммунистической партии» указывается: «Когда в ходе развития исчезнут классовые различия и все производство сосредоточится в руках ассоциации индивидов, тогда публичная власть потеряет свой политический характер... На место старого буржуазного общества с его классами и классовыми противоположностями приходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого является условием свободного развития всех» [2, с. 447].
В другом программном документе «Критике Готской программы» определяется сущность коммунизма. «На высшей фазе коммунистического общества, – писал К. Маркс, – после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени: Каждый по способностям, каждому по потребностям!» [3, с. 20]
По сути, это описание «истинного царства», и если убрать из последней цитаты специфичные научные термины, заменив их привычными, обыденными словами, то нечто подобное можно будет найти и фольклорных сказках, и в мифологических описаниях благодатного края, царство вечного благополучия и т.д.
Утопия, облеченная для большей убедительности в научную терминологию, не могла быть непривлекательной для массового народного сознания в силу того, что практически у всех народов существовали мифы, легенды и сказки, в которых тем или иным образом описывались эти края. Но одно дело сказки, а другое – попытка их воплощения в действительность.
Искоренение частных форм собственности на средства производства из хозяйственной системы страны означало для России значительный регресс, и их возрождение в настоящее время служит убедительным тому подтверждением. Однако в силу того, что кыргызский этнос перед революцией стоял на более низкой ступени общественного развития, чем русский, обобществление средств производства и ресурсов, а вернее, их огосударствление не возымело серьезных негативных последствий для него. Более того, в целом, оно носило положительный характер с точки зрения последствий, поскольку фактически приостановило процесс захвата кыргызских земель соседними этносами. Практически земли были законсервированы. Не в плане их хозяйственной эксплуатации, конечно, а в юридическом и политическом отношении, как закрепленные за определенным этносом, хотя в формальном отношении земля являлась народным достоянием. Это был первый и, по сути, наиболее существенный позитивный момент для кыргызов в новой системе отношений, возникшей вследствие смены власти. Впрочем, не менее важным для кыргызов оказался тот факт, что Россия стояла на более высокой общественной и социальноэкономической ступени развития и уже этим способствовала ускоренному развитию присоединенных районов, в том числе периферийным. «Вхождение Киргизии в состав России, - писал в своей монографии Т.У. Усубалиев, – привело к ликвидации племенных междоусобиц и межродовой розни, от которых страдали прежде всего трудящиеся массы киргизов. Этот исторический акт означал серьезный шаг на пути к преодолению обособленности племен, к национальному объединению киргизского народа. Именно с этого момента начался решительный переход от отсталого патриархально-феодального строя к более прогрессивному общественноэкономическому развитию в составе Российского государства» [4, с. 100].
Несмотря на то обстоятельство, что Т.У. Усубалиев писал эти строки, находясь под контролем Москвы, его мысли не противоречат истине. Обратимся к фактам и определенным свидетельствам.
Психология основной массы кыргы-зов, базировавшаяся на ценностях традиционного родового общества, была ориентирована на интересы и нужды собственного рода. В таких условиях не могло быть и речи об общеэтнической идентичности, что совершенно необходимо для создания полноценного государства, которое, по определению, Г. Гегеля, «есть единство всеобщего, существенного и субъективного хотения, а это и есть нравственность» [5, с. 89], «есть божественная идея как она существует на земле», так как «вся ценность человека, вся его духовная действительность, существует исключительно благодаря государству» [5, с. 90]. Очевидно, что бытие народа, живущего в пределах государства, существенно отличается от бытия народа вне и без государства и что наиболее полное и завершенное развитие этноса возможно при условии его государственного бытия. Эта же мысль одинаково справедлива для системы ценностей этноса.
Теперь обратимся ко второй части цитаты Т.У. Усубалиева, содержащей ту мысль, что с момента присоединения Кыргызстана к России «начался решительный переход от отсталого патриархально-феодального строя к более прогрессивному общественноэкономическому развитию в составе Российского государства». Это неоспоримый факт. В качестве дополнительного подтверждения можно привести мысль, одного из противников советской политической системы Ч. Уилбера, писавшего, что «советская Средняя Азия - это своеобразная витрина методов социалистического развития», которая «была преобразована в современное динамическое, стремящееся к прогрессу общество, которое убедительно доказывает, что советская система планирования представляет собой действенный метод для достижения внушительного экономического развития в слаборазвитых районах» [6, с. 9-10]. Английские советологи А. Ноув и Дж. Ньют отмечали, что бурный рост промышленности центрально-азиатских республик был возможен благодаря «индустриальной идеологии Советского правительства», его специальному вниманию к развитию ранее отсталых народов [6, с. 104], и он едва ли был воз- можен в условиях свободного предпринимательства, когда капитал устремляется в зоны, где возможно получить наибольшую прибыль.
Одним из позитивных следствий и одновременно показателей успешно проводимой социальной и экономической политики в Кыргызстане в советское время была высокая динамика роста численности кыргызов. Если в 1926 г. в республике насчитывалось 668,7 тысяч кыргызов, то в 1999 г. – свыше 3 миллионов. Приблизительно за этот же срок возросла также и относительная их доля к общей численности населения республики: в 1959 г. она составляла 40,5%, а 1989 г. – 52,4% [7, с. 50].
Несмотря на то, что кардинальные социально-политические и экономические реформы проводились в Кыргызстане, как во всем Советском Союзе, с определенными издержками, приводившими к искоренению целых сословий, они не носили чрезмерно болезненного характера именно для кыргызской части населения, так как в основной своей массе кыргызы не принадлежали к богатому или к среднему сословию. Степень дифференциации в традиционной кыргызской среде по имущественному признаку исторически была незначительна, что определенным образом оберегло кыргызов от социальной чистки. Кроме того, пережить реформы новой власти без ощутимого ущерба для себя и относительно успешно вжиться в новую систему ценностей позволило кыргызам то обстоятельство, что население страны в годы тотального господства государства было ориентировано на нормы коллективистской морали и коллективистские ценности, провозглашавшие примат семьи, коллектива, государства над целями и интересами индивида, что не только не противоречило, но и вполне соответствовало традиционным ценностям и принципам родоплеменных отношений. Несмотря на свое европейское происхождение, коммунистическая идеология была положительно воспринята кыргызским населением. Вообще говоря, исходные идейные и ценностные уста- новки кыргызского общества в целом не противоречили и не находились в состоянии конфронтации с коммунистическими идеями и принципами общественного бытия, во всяком случае по вопросам социального устройства и ценностных приоритетоа, за исключением, конечно, религиозных взглядов и ценностей.
«Вопрос об отношении коммунизма к религии, – писал Н.А. Бердяев, – и особенно к христианству требует особого рассмотрения. Непримиримо враждебное отношение коммунизма ко всякой религии не есть явление случайное, оно принадлежит к самой сущности коммунистического миросозерцания. Коммунистическое же государство есть диктатура миросозерцания… Коммунизм, не как социальная система, а как религия, фанатически враждебен всякой религии и более всего христианской. Он сам хочет быть религией, идущей на смену христианству, он претендует ответить на религиозные запросы человеческой души, дать смысл жизни» [1, с. 384].
Однако советская власть, несмотря на воинствующий атеизм коммунистической идеологии, относилась к умеренным формам религиозности лояльно, не усматривая в них серьезной опасности для своего существования.
Относительно степени и характера религиозности кыргызов Б. Аманалиев пишет следующее: «Академик М. О. Ауэзов утверждал: “В массе своей киргизский народ не был фанатичным, ни даже религиозным”. Сходной точки зрения придерживается Б. Джамгерчи-нов: “... подавляющее большинство киргизского народа нельзя... отнести к ревностным мусульманам, религиозного фанатизма среди киргизов не наблюдалось. Догматы ислама им были мало известны, религиозные обряды выполнялись не точно и не всеми”» [8, с. 49]. Именно умеренность в вопросах религии позволила кыргызам с большой степенью лояльности относиться к атеистической политике властей, мягко игнорируя ее. В целом же, общее положение вещей, сложившееся в советское время, кыргызов вполне устраивало.
Несмотря на формальный политический суверенитет Киргизской ССР, в советское время были созданы все необходимые политические, экономиче- ские и культурные предпосылки для кыргызской государственности. Была создана относительно развитая инфраструктура, способная к самовоспроизведению, социальная и экономическая база, система подготовки кадров, введена формальная система права взамен обычного, появилась национальная интеллигенция, были обозначены государственные границы и т.д. Была, наконец, создана необходимая культурная почва, на которой помимо исконных традиционных ценностей могли вполне прижиться и затем произрастать инородные. Многие положительные идеи и ценности либерализма, гражданского общества и многие другие западного происхождения, востребованные в настоящее время в кыргызском обществе, попали уже на подготовленную почву. Именно благодаря данному обстоятельству процесс глобализации в культурном отношении переживается кыргызским обществом относительно безболезненно. Однако было бы ошибочным представляют из себя нечто негативное само по себе и такое, от чего непременно следует избавиться. В них самой историей заложено много позитивного. И тем не менее многие черты традицион- ного уклада жизни и соответствующие им ценности, представляя собой анахронизм, служат тормозом для современного развития Кыргызстана. В частности, трайбализм, клановость, местничество и соответствующие им базовые ценности, основанные на кровнородственных связях, имеют глубокие корни и по меньшей мере не способствуют прогрессу.
В связи с советским периодом истории кыргызов следует упомянуть также о том, что в это время в Кыргызстане начался процесс урбанизации. Город с его специфическими формами и образом жизни предлагал новый набор ценностей, основывающийся на индивидуалистических принципах и началах, не свойственных основной массе кыр-гызов. В 1987 году кыргызы составляли 25 % всех занятых в промышленности республики [9, с. 20]. И хотя эти 25 % не делали общей погоды, тем не менее их число было достаточно большим и влияние на общий культурные процес- считать, что кыргызы в настоящее вре- сы вполне ощутимо, и несмотря на то, мя целиком адаптированы под новые что советская система не успела дове- культурные, политические и экономические веяния. Государственный патернализм, который пустил глубокие корни в советское время, наряду с концентрацией большей части кыргызского этноса в сельской местности способствовал сохранению традиционного уклада жизни в кыргызской среде. Следует пояснить, что мы не считаем, что традиционные формы жизни и ценности сти до конца модернизационные процессы, поспособствовав таким образом симбиозу старых и новых ценностей, именно в советское время были созданы основные социальные и культурные предпосылки для перехода кыргызского общества в новое качественное состояние, связанного с построением развитого гражданского общества.
Список литературы Трансформации кыргызского этноса в советский период истории
- Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. - М.: АО «Аспект Пресс», 1994. - 284 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Изд. 2-е. - М.: Государственное издание политической литературы, 1955. - Т. 4. - 616 с.
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Изд. 2-е. - М.: Государственное издание политической литературы, 1955. - Т. 19. - 671 с.
- Усубалиев Т.У. Ленинизм - великий источник дружбы и братства народов. - М.: Политиздат, 1977. - 227 с.
- Гегель Г. Лекции по философии истории. - С-Пб.: Наука, 1993. - 479 с.
- Камилов М.К. Формирование новой личности (философские и социологические аспекты). - М.: Наука, 1975. - 213 с.
- Юсупов Р.У. Численность и расселение дунган в Кыргызстане. Диалог ученых на Великом Шелковом пути: Сборник научных статей / Отв. ред. М.Х. Имазов. - Бишкек, 2002. - 377 с.
- Аманалиев Б.А. Из истории философской мысли киргизского народа. - Фрунзе: Изд-во академии наук Кирг. ССР, 1971. - 188 с.
- Труд в СССР. Статистический сборник. - М., 1988. - 302 с.