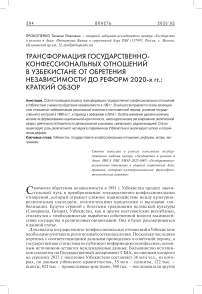Трансформация государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане от обретения независимости до реформ 2020-х гг.: краткий обзор
Автор: Прокопенко Т.П.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Государственно-религиозные отношения в странах Азии
Статья в выпуске: 3 т.33, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу трансформации государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане с момента обретения независимости в 1991 г. В ней рассматриваются этапы эволюции этих отношений: либерализация религиозной политики в постсоветский период, усиление государственного контроля в 1990-е гг. и переход к реформам в 2016 г. Особое внимание уделено влиянию ислама на формирование национальной идентичности, законодательному регулированию религиозной сферы, деятельности Комитета по делам религий и вызовам, связанным с радикализацией. Статья акцентирует роль религиозного наследия в современном Узбекистане и анализирует успехи и ограничения реформ.
Узбекистан, государственно-конфессиональные отношения, реформы, ислам, экстремизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170210373
IDR: 170210373 | DOI: 10.24412/2071-5358-2025-3-294-302
Текст научной статьи Трансформация государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане от обретения независимости до реформ 2020-х гг.: краткий обзор
С момента обретения независимости в 1991 г. Узбекистан прошел значительный путь в преобразовании государственно-конфессиональных отношений, который отражает сложное взаимодействие между культурнорелигиозным наследием, политическими процессами и вызовами глобализации. Будучи страной с богатыми традициями исламской культуры (Самарканд, Бухара), Узбекистан, как и другие постсоветские республики, столкнулся с необходимостью выработки собственной модели взаимодействия государства и религиозных организаций. Она и будет рассматриваться в данной статье.
Для анализа государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане необходимо учитывать религиозный состав населения. Поскольку последняя перепись с соответствующими данными проводилась в советский период, а государственная статистика не публикует информацию о конфессиях, основным источником остаются международные данные. Большинство источников ссылается на Государственный департамент США, по оценкам которого на середину 2023 г. население Узбекистана составляет 36 млн чел., из которых, по данным узбекского правительства, 35 млн – сунниты, 122 тыс. – шииты, 822 тыс. – православные христиане, 540 тыс. – последователи других религий. База данных World Religion Database дополняет этот список: бахаи – 1 тыс., буддисты – 37 тыс., евреи – 4 тыс. и зороастрийцы – 1 тыс. 1
Если же говорить об официально зарегистрированных религиозных организациях, то, по состоянию на 30 января 2020 г.2, в Узбекистане действовали 2 276 религиозных организаций, из которых только 183 являлись неислам-скими3. Таким образом, Узбекистан – страна с доминирующим мусульманским населением, большинство которого придерживается суннитского направления ислама – ханафитского мазхаба. «Титульной» религией страны закономерно оказывается суннитский ислам, что отражается на особенностях организации государственно-конфессиональных отношений в республике.
Переходя конкретно к эволюции государственно-конфессиональных отношений в Республике Узбекистан, мы можем сказать, что после распада СССР в стране начался процесс религиозного возрождения. В постсоветский период ислам подвергся инструментализации в целях формирования новой национальной идентичности и разворачивания государственного строительства в Узбекистане. Государственные структуры начали рассматривать ислам не только как религиозную традицию, но и как важный элемент культурного наследия, ревитализация которого оказывалась практически неизбежной в сложившихся конкретно-исторических условиях [Ohlsson 2011: 485].
Примером такой стратегии является продвижение в республике исторических исламских фигур, например имама Аль-Бухари, Тамерлана, сохранение и развитие исламских архитектурных памятников и мест паломничества, таких как Регистан в Самарканде, комплекс Имама Бухари и гробница Шейха Накшбанди в Бухаре, реставрация мечетей и медресе за счет государства [Раджапова 2016: 32]. Кроме того, уже в более поздние годы значительное внимание стало уделяться популяризации исламского наследия на международном уровне, например через поддержку культурных мероприятий и сотрудничество с ЮНЕСКО4. Такая интерпретация позволила интегрировать ислам в национальный дискурс, подчеркивая его значение как фактора, укрепляющего единство и историческую преемственность страны. Однако опора на ислам предполагала и противостояние рискам активного проникновения исламского экстремизма.
Наряду с восстановлением традиционных религиозных институтов в стране после обретения независимости стало усиливаться влияние различных транснациональных религиозно-экстремистских движений. Организации, такие как «Джама‘ат-и Таблиг»1, «Хизб ат-Тахрир ал-Ислами» (ХТИ)2, а также иные исламистские группы начали распространять свою идеологию через сеть литературы, образовательных программ и локальных контактов [Гафуров 2018: 45]. Так, активисты ХТИ завязывали общение с молодыми верующими в мечетях, предлагая им для ознакомления одну из брошюр организации. После того как человек прочитывал четыре таких брошюры, ему предлагали вступить в ряды ХТИ [Ананьина 2018: 74-75]. Влияние подобных организаций сказалось на религиозном ландшафте Узбекистана в постсоветский период, формируя вызовы для государственной религиозной политики, связанные с радикализацией отдельных групп и усилением внешнего влияния. У радикализации были очевидные социально-экономические причины: обнищание населения ввиду рыночных реформ, разрыв хозяйственных связей, безработица (как и во всем бывшем СССР). Свою лепту внесли и межнациональные столкновения в республике.
Трудным вызовом для государственно-конфессиональных отношений стала ситуация в Ферганской долине. Еще в декабре 1989 г. в г. Намангане был организован митинг, участники которого требовали вернуть народу старую мечеть и медресе, использовавшиеся в советский период для других целей. Местные власти оперативно удовлетворили эти требования, что послужило сигналом для общества о начале изменений в отношениях между государством и религиозными общинами. Эти события вызвали цепную реакцию, способствовавшую проведению массовых митингов религиозного и социально-экономического характера в других регионах Узбекистана, организованных различными политическими партиями и группами.
Крупным инцидентом стал митинг в декабре 1991 г., одним из организаторов которого выступил глава исламистского движения «Адолат уюшмаси» («Общество справедливости») Тахир Юлдашев. Он выдвинул требования президенту Узбекистана Исламу Каримову, среди которых были: признание страны исламской республикой, отмена светского характера государства (ст. 51 Конституции), введение пятницы как выходного дня, проведение досрочных выборов, легализация исламских партий, включение религиозных дисциплин в образовательные программы, упрощение процедур паломничества и решение местных социально-экономических проблем. В ответ государство жестко подавило это выступление, укрепив контроль над религиозной сферой и преследуя лидеров движения [Ohlsson 2011: 485].
В продолжение этих событий в 1992-1993 гг. около 50 исламских миссионеров из Саудовской Аравии были высланы из страны [Ohlsson 2011: 491]. Одновременно власти ограничили деятельность иностранных суфийских миссионеров, что отразило общий курс на ужесточение религиозной политики в целях обеспечения стабильности и предотвращения радикализации.
-
1 4 июня 1991 г. Верховный совет Республики Узбекистан принял закон «О свободе совести и религиозных организациях»3, который стал первым зако нодательн ым актом независимого Узбекистана, закрепившим право граж-
- дан на свободу совести, включая право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Закон установил принципы равенства граждан независимо от их религиозной принадлежности, а также подтвердил отделение религиозных организаций от государства. Документ установил обязательную регистрацию религиозных объединений, запретил использование религии в политических целях и вмешательство религиозных организаций в светскую сферу, включая образование. Этот закон стал основой для регулирования государственно-конфессиональных отношений в условиях независимости, сохраняя баланс между правами верующих и принципом светскости.
-
7 марта 1992 г. в Узбекистане был создан Комитет по делам религии1, который функционирует до сих пор. Он наделен полномочиями регулировать взаимодействие между государством и религиозными организациями. Его задачи включают реализацию единой государственной политики в области свободы совести, координацию взаимодействия органов власти с религиозными объединениями и контроль за соблюдением религиозного законодательства. Комитет также содействует налаживанию диалога между различными конфессиями, регулирует религиозное образование, лицензирует деятельность учебных заведений и контролирует распространение религиозной литературы.
Кроме того, он отвечает за организацию религиозных паломничеств, сотрудничество с зарубежными религиозными организациями и поддержку образовательных инициатив, связанных с религией. Эта структура стала ключевым инструментом для обеспечения равенства граждан независимо от их религиозной принадлежности, укрепления межконфессиональной толерантности и контроля за деятельностью религиозных объединений в постсоветский период.
-
8 декабря 1992 г. была принята Конституция Республики Узбекистан2, которая заложила основы государственной политики в религиозной сфере, гарантируя:
-
– равенство граждан независимо от их религиозной принадлежности (ст. 18);
-
– свободу совести и убеждений, включая право исповедовать любую религию или отказаться от религиозных практик, а также недопустимость навязывания религиозных взглядов (ст. 31);
-
– запрет на создание политических партий и объединений, пропагандирующих религиозную вражду (ст. 57);
-
– отделение религиозных организаций от государства, равенство религиозных объединений перед законом и невмешательство государства в их деятельность (ст. 61).
Кроме того, ст. 105 закрепляет статус махаллей3 как органов местного са- моуправления, выполняющих ключевую роль в социальной и культурной жизни, включая аспекты, связанные с религиозной идентичностью.
Эти положения отразили стремление Узбекистана создать правовую базу для регулирования религиозной сферы, опираясь на принципы светского государства, толерантности и межконфессионального равенства.
В то же время в Узбекистане была сформирована официальная религиозная структура. Наследием советского периода стало Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (ДУМСА), которое, претерпев реформы, было преобразовано в Управление мусульман Узбекистана ( O’zbekiston Musulmonlari Idorasi ). Эта институциональная трансформация отразила стремление государства адаптировать религиозные структуры к новым политическим и социальным условиям независимости, сохранив при этом централизованный контроль над религиозной жизнью страны [Ohlsson 2011: 489].
1 мая 1998 г. Олий Мажлис Республики Узбекистан пересмотрел и принял в новом виде закон «О свободе совести и религиозных организациях»1. Новая редакция демонстрирует значительные изменения в подходах государства к регулированию религиозной жизни. Во-первых, добавилось уточнение, что деятельность религиозных организаций должна соответствовать принципам «государственной независимости» и «светскости», что отражало усиливающийся контроль над религиозными практиками в условиях политической стабилизации. Во-вторых, был усложнен процесс регистрации религиозных организаций, включая их создание только при наличии определенного числа граждан, что позволило государству лучше контролировать религиозную деятельность.
После беспорядков в 2005 г. в г. Андижане президент Узбекистана Ислам Каримов указал2, что их организаторами явились исламские экстремистские группировки во главе с ХТИ. Следует отметить, что исламские экстремисты в качестве своей политической программы реализуют управляемую архаизацию общества с реконструкцией средневековья, которая сопровождается массовыми чистками, убийствами, грабежами, изнасилованиями граждан, обвиненных в несоответствии «исламской нравственности» или «исламским порядкам».
В 2006 г. в Узбекистане были введены изменения в уголовное и административное законодательство, касающиеся религиозной деятельности, что привело к усилению контроля над религиозными организациями. В частности, были ужесточены санкции за распространение незарегистрированных религиозных материалов3. Эти меры сопровождались увеличением штрафов за нарушение законодательства о религиозной деятельности и введением наказаний для религиозных лидеров, не зарегистрированных официально. Например, два протестантских пастора были привлечены к уголовной ответственности, один из которых был приговорен к четырем годам лишения свободы в трудовом лагере, а другой – к условному сроку1.
В том же 2006 г. Государственный департамент США признал Узбекистан «страной, вызывающей особую озабоченность» ( CPC ) в вопросах свободы вероисповедания2.
С приходом к власти Шавката Мирзиеева в 2016 г. в Узбекистане были предприняты шаги по либерализации религиозной политики. Они включили в себя ослабление ограничений для религиозных организаций, амнистию для 575 осужденных по обвинениям в религиозном экстремизме и смягчение контроля над религиозной практикой. Эти действия свидетельствуют о коренной трансформации государственной политики в сфере государственно-конфессиональных отношений, стремлении возглавить и направить процессы, которые невозможно полностью подавить. Государство начало активно участвовать в строительстве мечетей, контролировать процесс подготовки имамов и продвигать концепцию умеренного ислама как средства противодействия исламизму. Этот подход, хотя и вызывает споры, отражает стремление к отказу от репрессивных практик, характерных для эпохи Ислама Каримова.
Указ Президента Узбекистана от 16 апреля 2018 г. «О мерах по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы»3 также был направлен на реформирование и либерализацию религиозной сферы страны. Важнейшие меры включают ослабление государственного контроля за религиозными организациями, создание условий для частного религиозного образования с сохранением строгого регулирования, развитие программ пропаганды исламских ценностей и модернизацию инфраструктуры для религиозных мероприятий. Также предусмотрено усиление взаимодействия с международными исламскими учебными заведениями и организациями. Вероятно, эти изменения связаны с политическим сближением Узбекистана с Турцией и постепенным нарастанием турецкого влияния на внутриполитические процессы в стране.
Указ расширил перечень задач и функций Комитета по делам религий до 30 глав, указав на реализацию единой государственной политики в сфере религии как основную задачу [Schmitz 2023: 14].
Помимо этого, в октябре 2017 г. Узбекистан посетил специальный докладчик ООН по вопросам свободы религии или убеждений, который рекомендовал провести значительную реформу закона 1998 г.4 В ответ на эти рекомендации парламент страны в январе 2019 г. утвердил «дорожную карту»5 для их реализации, в которой одной из ключевых целей было обозначено улучшение междунаро дного имиджа Узбекистана.
Благодаря проведенным реформам Узбекистан был исключен из списка стран, вызывающих особую обеспокоенность ( CPC ), и в 2018 г. перемещен в категорию специального наблюдения ( Special Watch List )1.
Редакция закона Республики Узбекистан «О свободе совести и религиозных организациях»2 2021 г. постаралась усилить гарантии свободы совести и упростила регистрационные процедуры для религиозных организаций. Основные изменения включали сокращение минимального числа инициаторов для регистрации с 100 до 50 чел., уменьшение срока рассмотрения документов до 1 месяца и возможность подачи заявлений в электронном виде. Также были сняты ограничения на ношение религиозной одежды в общественных местах и упрощены требования к регистрации, включая исключение обязательного согласия махалли. В то же время сохранились ограничения на частное религиозное образование и запрет на преподавание религиозных дисциплин в светских учреждениях, что отражает приверженность принципу секуляризма в государственной политике.
Однако несмотря на очевидную либеральную направленность закона, которая свидетельствует о попытке Узбекистана перенять международные стандарты в этой области, мировые правозащитные организации остались недовольными положением дел. Закон 2021 г. неоднократно критиковался3 за то, что не полностью соответствовал выдвинутым требованиям. Одно из основных замечаний касалось названия закона. Венецианская комиссия Совета Европы, которая в августе 2020 г. проводила конституционную экспертизу по запросу, рекомендовала ссылаться на «свободу мысли, совести, религии или убеждений», чтобы включить нерелигиозные убеждения в поле закона [Schmitz 2023: 14]. Комиссия США по международной свободе вероисповедания ( USCIRF ) указала на проблемы с ограничениями на выражение религиозных убеждений, аресты трудовых мигрантов по обвинениям в распространении экстремистских материалов и дискриминацию отдельных религиозных меньшинств4. Комиссия отмечала, что реформы, хотя и значительные, остаются недостаточными для полного обеспечения свободы религии, и рекомендовала дальнейшее усиление контроля за соблюдением религиозных прав. При этом следует отметить, что применимость рекомендованных изменений для возможности регулирования ситуации в стране выносится за скобки большинством международных организаций, критикующих политику Узбекистана в этой области.
Таким образом, анализ трансформации государственно-конфессиональных отношений в Узбекистане позволяет сделать вывод, что страна, пройдя через этапы либерализации, ужесточения и последующих реформ, стремится найти баланс между сохранением светских принципов и признанием важности религиозного наследия. Принятие законодательства, институционализация контроля за религиозной сферой и продвижение культурноисторических исламских ценностей продемонстрировали способность государства адаптировать религиозную политику к вызовам времени. Однако остается открытым вопрос, окажется ли эффективной либерализация государственно-конфессиональных отношений в долгосрочной перспективе и не вызовет ли она новые столкновения в ближайшем будущем в контексте активизации религиозного экстремизма в Афганистане, а также ставки Анкары на исламский экстремизм, инструментализированный ею на внешнеполитическом треке.
В настоящий момент значительным риском для Узбекистана обладают исламистские организации с этнически узбекским составом, которые массово заброшены в Сирию. Учитывая то, что они курируются Турцией, Катаром и опосредованно – Великобританией, в среднесрочной перспективе вероятны попытки дестабилизировать ситуацию в Узбекистане путем направления среднеазиатских экстремистов на родину. Вместе с тем следует заметить, что Ташкент данную угрозу осознает и принимает меры для недопущения подобного сценария.