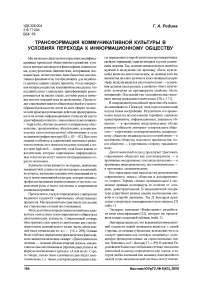Трансформация коммуникативной культуры в условиях перехода к информационному обществу
Автор: Родина Галина Алексеевна
Рубрика: Актульные вопросы коммуникации
Статья в выпуске: 8 (63), 2006 года.
Бесплатный доступ
В статье Г. А. Родиной «Трансформация коммуникативной культуры в условиях перехода к информационному обществу», во-первых, рассматривается процесс становления нового общества, когда во всех сферах человеческой практики решающие действия предпринимаются на основе информационных технологий, что позволило выявить наиболее адекватный современным модификационным процессам общественного развития термин - «сетевая постэкономика». Во-вторых, выясняется влияние этих изменений на ту часть коммуникативной культуры, которая связана с профессиональными компетенциями, - в сторону переноса акцента с исполнительских на творческие характеристики работника и повышение статуса компетентностно-ориентированного подхода, вытесняющего ЗУНовский квалификационный подход. В -третьих, определяется промежуточная роль самих профессиональных компетенций в современном социальном развитии в свете формирования человеческого капитала, выступающего перспективным и практически неисчерпаемым источником экономического роста.
Короткий адрес: https://sciup.org/147150464
IDR: 147150464 | УДК: 338:004
Текст обзорной статьи Трансформация коммуникативной культуры в условиях перехода к информационному обществу
316.77:004 ББК 65
ТРАНСФОРМАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЩЕСТВУ
Мы являемся свидетелями серьезных модификационных процессов общественного развития, сущность которых исследуется философами, социологами, культурологами, лингвистами, историками, экономистами, политологами; даже биологам, математикам и физикам есть, что предложить для подобного анализа; однако следует признать, что до завершения интересующих нас изысканий весьма далеко, что неудивительно: социальные трансформации разворачиваются на наших глазах, поэтому роль и значение многих новаций пока не прояснились. Происходит становление нового общества во всей его многообразной реальности, когда во всех сферах человеческой практики решающие действия предпринимаются на основе информационных технологий (часто идентифицирующихся с «высокими технологиями» —high-tech), обычно сводимых к аппаратному обеспечению, программному обеспечению, алгоритмическому (интеллектуальному) обеспечению и сети поддержки (инфраструктуре) [8, с. 82— 83]. При этом главная особенность современной экономики заключается отнюдь не в переходе ведущих позиций к индустрии high-tech — напротив, куда более важны те воздействия, которые современные информационные технологии могут оказать на традиционные отрасли экономики.
Задачами статьи являются: во-первых, выявление имманентной сущности происходящих изменений; во-вторых, выяснение влияния этих изменений на ту часть коммуникативной культуры, которая связана с профессиональными компетенциями; в-третьих, определение роли и места последних в современном социальном развитии.
Прежде всего, следует определиться с авторским видением сущности современных общественных процессов. Мы предпочитаем трактовать последние как становление сетевой постэкономики.
Методологически представляется наиболее адекватным осмысление идеи современного общества в дихотомическом контексте. Современный словарь иностранных слов трактует дитохомию как «последовательное деление целого на две части, затем каждой части снова на две и т. д.» — [14, с. 209]. Однако более глубокое определение предлагается в философском энциклопедическом словаре: «Дихотомическое деление — деление объема понятия (класса, множества) на два соподчиненных (производных) класса по формуле исключенного третьего: «А или не-А». Строго говоря, только такое «деление на два» будет дихотомическим, т. е. таким, в котором производные клас сы определяются парой логически противоречивых свойств (терминов), одно из которых служит основанием деления. Так, деление множества всех людей на мужчин и не-мужчин (по признаку «быть мужчиной») является дихотомическим, но деление того же множества на класс мужчин и класс женщин (по признаку пола) не является дихотомическим — основания деления здесь разные, а свойство «быть мужчиной» логически не противоречит свойству «быть женщиной». Последний тип «деления на два» называют иногда псевдодихотомическим» [20, с. 171].
В современной российской практике оба подхода смешиваются. Пожалуй, псевдо дихотомический подход более востребован. Результатом его применения является использование терминов: сервисно ориентированное, информационное, знаниевое общество — в противовес индустриальному (более раннему) обществу; интернет- и виртуальное общество — в противовес доинтернетовскому, материальному; общество индивидуального потребления — в противовес обществу массового производства; новое общество — в противовес старому, традиционному.
Дихотомический подход предлагает трактовать современное общество как постмодерновое — в противовес модерновому; постиндустриальное—в противовес индустриальному; постэкономическое — в противовес экономическому.
Все характеристики нацелены на размежевание современного, нового, общества и досовременно-го, старого. Термин «новая» применительно к экономике призван подчеркнуть ее отличие от «старой», доинтернетовской. В экономической литературе существуют разные оценки соотношения «новой» и «старой» экономик. Так Д. Бондарев предлагает следующую компаративистскую матрицу [3] (табл. 1)
Эксперты компании «Инфосервис» разработали свою классификацию [22], которую мы представили в виде следующей таблицы (табл. 2).
Нам представляется, что выражением имманентной сущности новой экономики является, с одной стороны, ее сетевая субстанция, вследствие чего ее следует трактовать как «сетевую экономику», основанную преимущественно на горизонтальных связях, Netnomics, по С. Дятлову [7, с. 89]. В докладе Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика (networked economy) определяется как «среда, в которой любая компания или индивид, находящийся в любой точке экономической системы, могут контак-
Сравнительная характеристика «старой» и «новой» экономики
Таблица 1
|
Старая экономика |
Новая экономика |
|
Опора на полученные знания и навыки |
Обучение — непрерывный процесс длиной в жизнь |
|
Опора на безопасность и стабильность |
Готовность к риску |
|
Ориентация на сохранение старых рабочих мест |
Ориентация на создание новых рабочих мест |
|
Опора на капитал |
Опора на знания и интеллектуальную собственность |
|
Стремление к сохранению status quo |
Скорость и изменения |
|
Концепция «выигрыш — проигрыш» (от сделки одна из сторон выигрывает больше другой) и «нулевого баланса» (обе стороны просто стремятся минимизировать свои потери) |
Концепция «выигрыш — выигрыш» (каждая из сторон сделки получает явный выигрыш) |
|
Высокая степень внешнего регулирования |
Формирование новых альянсов и саморегулирование |
Сравнительная характеристика «старой» и «новой» экономики
Таблица2
|
Критерий |
Старая экономика |
Новая экономика |
|
Материальное производство |
Крупные предприятия с малоподвижной структурой; их мощность определяется капиталом |
Гибкие, динамично развивающиеся организации; определяющим фактором является квалификация рабочей силы |
|
Политика |
Информация доступна только верхнему эшелону власти |
Информация широкодоступна для всех слоев населения |
|
Культура |
Массовая культура, адекватная массовому стандартизированному продукту |
Привлекательный и содержательный труд обусловливает рост культурного уровня |
|
Технология |
Технологическое развитие ориентировано на вытеснение людей ради сниже- |
Интерактивный характер работы, которая становится |
тировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [28].
Нам представляется, что выражением имманентной сущности новой экономики является, с одной стороны, ее сетевая субстанция, вследствие чего ее следует трактовать как «сетевую экономику», основанную преимущественно на горизонтальных связях, Netnomics, по С. Дятлову [7, с. 89]. В докладе Европейской Комиссии глобальная сетевая экономика (networked economy) определяется как «среда, в которой любая компания или индивид, находящийся в любой точке экономической системы, могут контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торговли, для обмена идеями и ноу-хау или просто для удовольствия» [28].
С другой стороны, более адекватным видится термин не «сетевая экономика», а «сетевая постэкономика» с учетом того, что дефиниция «экономика», привязанная к рациональному использованию ограниченных ресурсов, перестает соответствовать сетевому принципу организации хозяйственной практики, основанному на эксплуатации практически безграничного информационного ресурса. Аргументация в пользу термина «постэкономика» содержится в «Расколотойцивилизации» В. Л. Иноземцева, где автор, солидаризируясь с Г. Каном, делит цивилизацию на три эпохи: доэкономическую (основным типом деятельности была предтрудовая деятельность, направленная на противостояние человека природе в борьбе за выживание); экономическую (основой являлся труд как осмысленная деятельность по созданию комфортной и безопасной среды обитания); постэкономическую (основой является творчество) [6, с. 7].
Сетевая постэкономика характеризуется открытостью, неравновесностью, необратимостью, нестабильностью, бифуркационностью, нелинейностью своего развития, что значительно повышает неопределенность траектории экономического развития, но, с другой стороны, придает последнему динамизм (экономику можно назвать динамичной, если она конкурентоспособна на международном уров- уровне, обладает производительным бизнесом и инновационна). Перечисленные черты новой экономики вносят существенные изменения в профессиональные компетенции и требуют адекватного подхода к их объяснению, чему посвящена следующая часть статьи.
Под компетенциями (от лат. competere — добиваться, соответствовать, подходить) традиционно понимался круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, а также круг вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлен. Новый подход к человеческим ресурсам в условиях новой экономики внес коррективы в это определение: сегодня компетенции трактуются как совокупность сформированных образованием и накопленных практическим опытом способностей, позволяющих устанавливать связь между знаниями и ситуацией, т. е. это то, что обеспечивает эффективное поведение в определенных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности, поскольку' еще до встречи с этими ситуациями в человеке «взращена» готовность ответить на вызовы извне путем переноса освоенных знаний и способов деятельности в новую, незнакомую среду.
Существует несколько подходов к тому, чть составляет основные (key) компетенции: их может быть лишь две—уметь писать и думать; может быть семь — учение, исследование, думание, общение, взаимодействие, умение доводить дело до конца, приятие себя [26]. М. Холстед и Т. Орджи выделяют три основных компетенции: работа с числом, коммуникации, информационные технологии, — и три более широких: самообучение и самопрезентация, работа в команде, решение проблем.
Работник должен обладать такими профессиональными компетенциями, которые обеспечивали бы соответствие между скоростью внедрения новых технологий и товаров, с одной стороны, и адекватной реакцией работника на эти изменения, с другой, что, в свою очередь, обеспечивается гибкостью системы образования, с третьей стороны.
Из всех производственных ресурсов именно трудовой претерпел наиболее революционную трансформацию: во-первых, он занял доминирующие позиции, по сравнению с другими ресурсами (три четверти руководителей во всем мире ставят, с точки зрения стратегической важности, человеческий труд впереди производительности труда и технологий, а 80 % руководителей склонны считать, что к 2010 г. привлечение и удержание людей станет главной стратегической задачей [23]); во-вторых, модифицировалось содержание труда, выразившееся в качественном сдвиге с использования преимущественно мускульной на преимущественно интеллектуальную составляющую рабочей силы. По расчетам академика Берга, еще в ХЕХ веке 96 % всей применяемой в производстве силы составляла мускульная; сегодня же, «независимо от отрасли успех определяется наличием мозгов, а не мускулов» [13, с. 96].
Типичный работник индустриальной эпохи (эпохи «фабричных труб», по выражению Э. Тоффлера [18, с. 81])—квалифицированный исполнитель, дисциплинированный «под машинный ритм», получал единожды некую сумму статичных узкоспециализированных знаний, достаточных для работы в течение жизни одного, а то и двух поколений. ЗУНов-ская система образования (знания-умения-навыки) обеспечивала подготовку подобного работника определенной квалификации, т. е. специалиста. Особенно ценились такие свойства работника, как точность, подчинение единой центральной власти, способность к пониманию того, как функционирует бюрократия, готовность смириться с пожизненным механическим и однообразным трудом. Такому работнику адекватны жесткие должностные инструкции, ограниченные информационные каналы, принятие решений за закрытыми дверями, кастовость управления, строгонедоверчивое отношение к сотрудникам (униформа, контроль за приходом на работу, контроль и обыск на выходе).
Сетевое общество меняет роль человека в производстве вследствие коренного изменения содержания труда: рабочие места, на которых автоматизированы все операции и для которых может быть создан алгоритм, требуют умения ориентироваться в потоке информации, сравнивать варианты и принимать нестандартные решения. Это умение зависит не столько от суммы знаний и навыков, «вбитых» в голову, сколько от уровня развития личности, ее ценностных ориентаций и общей культуры.
Секретом выживаемости в экономике, основанной на знаниях, является обладание самым дефицитным ресурсом — соответствующей компетенцией; вот почему ключом к конкурентоспособности становится процесс непрерывного обучения сотрудников («от знания на всю жизнь—к знанию через всю жизнь!»). На обучение многие компании тратят до 10 % рабочего времени; акцент делается на обучение искусству обучаться и развитие системного мышления. С учетом быстрой смены обстановки, морального старения используемых знаний внутрифирменное планирование постоянно усложняется, что актуализирует потребность в таких качествах, как «организационные инстинкты», интуиция, развитое воображение, быстрота реакции, нестандартность решений, адаптируемость, гибкость. В новой экономике сбывается пророчество Ч. Дарвина о том, что выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. В итоге «время становится стратегическим фактором успеха, так как, во-первых, при запоздалом проникновении на рынок срока присутствия там не хватает, чтобы покрыть высокие постоянные затраты; во-вторых, может сформироваться новый стандарт, который будет предопределять дальнейшее развитие рынка... Не крупные конкурен- ты поглощают мелких, а быстрые — менее расторопных» [4, с. 83].
Продолжительность жизни многих продуктов на рынке постоянно снижается, иногда до нескольких месяцев, пока конкуренты не запустят свое производство. Единственный способ выжить в таких условиях — начинать разработку продукта № 2, когда продукт № 1 только запускается, и выводить №2 на рынок тогда, когда цена на № 1 начинает падать, как только конкуренты-имитаторы овладели искусством производить № 1. Недаром экономику бенчмаркинга профессора Стокгольмской школы экономики Й. Риддерст-рале и К. Нордстрем назвали «караоке-капита-лизмом», который «никогда не приведет на вершину, а только выведет в середняки» [13, с. 28].
Интеллект, обаяние, коммуникативность, позитивное отношение к жизни, интуиция, чувство юмора, умение ориентироваться в потоках постоянно меняющейся информации и переструктурировать ее, способность брать на себя ответственность, способность к продуктивным контактам, способность работать в команде, быть творцом, нацеленность на постоянное самосовершенствование, эмоциональная выдержанность, общая толерантность—вот главные конкурентные преимущества специалиста информационной эпохи.
Многие из современных профессий зависят от культуры такими способами, которых ранее не было: новая экономика вознаграждает за умение обращаться с символами, образами и абстракциями, за способность говорить и мыслить логично, за познавательные способности и образование. Гарвардским университетом определено понятие «гуманитарно образованного человека» как человека, который, во-первых, способен мыслить четко и ясно и также четко и ясно излагать свои мысли в письменном виде; во-вторых, в достаточной мере знаком с основными научными направлениями; в-третьих, имеет возможность использовать свой собственный опыт в контексте другой культуры; в-четвертых, имеет представление о морально-этических проблемах и имеет опыт их решения; в-пятых, достиг глубины в какой-то определенной сфере знания [ 10, с. 94]. Ценится индивидуальность и предприимчивость, воображение, желание непосредственно участвовать в подготовке программы выполнения работы, способность предвидеть результаты работы, радость от выполнения работы, здоровое самолюбие и амбиции, наличие чувства конструктивной неудовлетворенности, склонность к быстрому приспособлению к изменениям (гибкие способны работать более, чем на одного работодателя, а, возможно, даже одновременно выступать в роли работодателя) и другие способности, потребность в которых в индустриальном обществе была гораздо меньше, а, соответственно, они и в меньшей степени вознаграждались [19, с. 23— 28.]. Востребованными становятся люди, не имеющие навыка в какой-либо одной пожизненной специальности, зато обладающие опытом в нескольких различных областях, т. е. имеющие не просто профессиональную подготовку, а универсальную профессиональную подготовку, и способностью перемещать идеи из одной сферы в другую; приоритет отдается абсолютно новым идеям, т. к. лидерами в новой экономике становятся компании, предлагающие высокотехнологичные продукты на основе эксклюзивных разработок. «Расширение постиндустриального сектора,—отмечает Д. Белл, —требует, чтобы как можно больше людей имели высшее образование, получили навыки абстрактно-концептуального мышления и овладели техническими и буквенноцифровыми приемами» [2].
Типичный работник постиндустриального общества —это умеющий накапливать и эффективно использовать знания и умения работник преимущественно умственного труда. Это уже не традиционный рациональный «экономический человек», а, по В. В. Тарасенко, «человек кликающий», пальцы которого «клюют» на то, что ему хочется, что удобно и утилитарно [16, с. 111—120], или, в трактовке А. В. Бузгалина и А. И. Колганова, «человек творческий» («способный и желающий ориентироваться в своей деятельности не только на ... материальные гарантии, но и —- прежде всего — на такие мотивы и стимулы труда и новаторства, как свобода деятельности и самореализация, прогресс творческого содержания труда, рост свободного времени» [ 11, с. 18]). Такой тип работника не нуждается во внешней организации, он способен самостоятельно ставить цели, избирать необходимую стратегию действий и эффективно решать поставленные задачи. Для него не характерны детальное разделение и заданный извне ритм труда. В зоне своей ответственности он более компетентен, чем его начальник. Поэтому главным становится не часовая выработка, а долговременный результат работы.
«Проходной балл» в общество XXI века — пятнадцатилетнее качественное образование плюс владение информационными технологиями плюс профессиональная переподготовка в течение всей последующей жизни. Страны, не способные обеспечить необходимый уровень образования населения, развития науки и качества информационной среды, будут обречены на неэквивалентный внешнеэкономический обмен и глубокую зависимость от мировых финансовых и информационных центров, сохранив за собой функции источника продуктов сырья и человеческого материалов для ТНК и развитых держав, концентрирующих глобальный интеллектуальный потенциал.
Таким образом, современный работник должен не только уметь применять и обрабатывать информацию, но также быть способным учиться добывать и накапливать знания и навыки, т. е. быть способным к самопрограммированию. Именно такой работник, — самопрограммирующийся, высококачественный и, соответственно, высокооплачиваемый, — становится важнейшим фактором производства в информационной экономике.
Систему «поддерживающего обучения», рассчитанную на отработку (можно сказать, на натаскивание) действий в стандартных повторяющихся условиях, сменяет система «инновационного обучения», ориентирующая обучающегося на сознательный выбор альтернатив с четким представлением того, что должно быть и что необходимо вместо того, что может быть и что возможно [12, с. 84].
Вторая половина XX столетия «ужала» средний жизненный цикл продукта или технологии с 20—30 лет, характерных для периода интенсивной индустриализации, до 5—7 лет, а в ряде отраслей—до 2—3 лет. Соответственно, были внесены коррективы в понимание того, чть такое образование: от «обучения на. всю жизнь» пришлось отказаться в пользу необходимости в течение деловой жизни адаптироваться не менее 4—5-ти раз к качественно иным технологическим и потребительским новинкам.
Информационная экономика придает постоянному обновлению знаний еще более настоятельный характер, учитывая ускорение процесса устаревания профессий и специальностей, возводя в ранг закономерности лозунг «обучения в течение всей жизни», т. е. человек превращается в вечного студента. Предполагается, например, что в 2007 г. не менее 90 % информации, необходимой человеку для выполнения своих профессиональных функций, может быть получено только после 1987 г. Знания и навыки, полученные в детстве и юности, более не гарантируют успеха на всю оставшуюся жизнь, они становятся лишь базой для постоянного, систематического обновления знаний и навыков (более того, новая экономика нуждается не столько в знаниях и умениях, сколько в компетенциях: компьютерных (каждый гражданин информационного общества должен обладать знаниями и навыками, во-первых, необходимыми для пользования Интернетом; во-вторых, системного и аналитического мышления с тем, чтобы отслеживать, систематизировать и анализировать нужную информацию; в-третьих, создания новой информации. Согласно опыту США, новая экономика получает адекватную среду для своего развития только тогда, когда 50 % домохозяйств приобретают компьютеры и получают доступ в Сеть. Для сравнения: в России в 2004 г. этим пользовались 11 % населения), языковых, технологических, коммуникатив ных, предпринимательских, социальных). Поэтому от системы «поддерживающего обучения», существовавшей четверть века назад, нацеленной на отработку действий в заранее известных повторяющихся ситуациях, необходимо перейти к инновационному обучению, ориентирующему человека на сознательный выбор альтернатив.
ЗУНовский квалификационный подход уступает иетакомпетешпиоапно-ориентированному; следовательно, задача общества—обеспечить всеобщий непрерывный доступ к образованию для получения и обновления компетенций, необходимых для включенности в информационное общество. Задача не совсем простая с учетом того, что в среднем по стране приходится по одному компьютеру на 120 школьников при европейской норме — один компьютер на 30—40 учеников, и американской — на 8 школьников; на текущий год поставлена задача завершить подключение к Интернету школ всех уровней [ 1 ].
Переходя к решению третьей задачи статьи, следует признать, что компетентностями подход не является итоговым результатом, его можно рассматривать в качестве «мостика» между квалификационным подходом, нацеленным на подготовку специалиста и формированием человеческого капитала.
Считается, что обсуждение проблемы человеческого капитала началось после выдвижения идеи человеческого капитала американским нобелевским лауреатом Т. Шульцем и, особенно, разработки ее базовой теоретической модели еще одним Нобелевским лауреатом по экономике Г. Беккером в 1964 г. в работе «Инвестиция в человеческий капитал: теоретический и практический анализ» (в отечественной научной среде эта работа более известна под сокращенным названием «Человеческий капитал»): «Человеческий капитал состоит из приобретенных знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в целях производства товаров и услуг» [24, с. 162]. Следует, однако, заметить, что истинным первооткрывателем теории человеческого капитала является С. Г. Струмилин, который впервые еще в 1924 году (!) в работе «Хозяйственное значение народного образования» произвел расчет окупаемости вложений в образование и пришел к выводу, что «простая грамотность, достигаемая за один год обучения, повышает продуктивность рабочего на 30 %. В среднем за ряд лет, год школьного образования давал примерно в 2,6 раза бьлыпую прибавку квалификации, чем год заводской выучки» [15, с. 266].
Все зарубежные определения человеческого капитала можно классифицировать по трем группам (табл. 3).
Таблица3
Классификация определений человеческого капитала
|
Группа |
Подход к определению человеческого капитала |
|
|
Суженный подход |
Персоналии |
Д. Бегг, Г. Беккер, Э. Дж. Долан, Ф. Махлуп, Е. Шульц |
|
Сущность трактовки |
Знания, навыки, мотивации, энергия, которыми наделен человек и которые могут использоваться в течение определенного периода времени в производственных целях |
|
|
Расширенный подход |
Персоналии |
Дж. Кендрик, Л. Туроу, С. Фишер |
|
Сущность трактовки |
Не только производительные способности, но и социальные, психофизические, мировоззренческие, культурные свойства и способности людей, умение вести себя в быту и на работе, заводить знакомства, поддерживать деловые отношения, стабильность в семье и обществе, морально-этические качества |
|
|
Ассоциированный подход |
Персоналии |
Й. Бен-Порэт, О. Вуудс, К Метцгер, С. Хюбнер |
|
Сущность трактовки |
Человеческий капитал определяется через сравнение с физическим |
|
Человеческий капитал (интегральная схема его формирования представлена на рис. 1) выступает новым, долгосрочным, практически неисчерпаемым, источником экономического роста, ибо, в отличие от других ресурсов, он может воспроизводиться в долгосрочной перспективе на фоне склонности к исчерпанию других ресурсов. Это приводит к тому, что для человеческого капитала неверен закон об убывании предельной производительности капитала. Так, если часть капитала представлена новыми знаниями работников и инновациями, то общее возрастание капитала способно увеличить, а не уменьшить его предельную производительность. Более того, растущая доля человеческого капитала в совокупном ка питале фирмы на фоне соответственно снижающейся доли физического и денежного капитала («человеческий капитал заменил долларовый капитал», т. к. знание стало абсолютным заменителем ресурсов для бизнеса [18, с. 120]) обеспечивает повышение предельной производительности любого капитала; в противном случае восстанавливается обычная ситуация, сопровождающаяся убыванием предельной эффективности капитала по мере роста его объема. В результате инновационные компании, по сравнению с традиционными, быстрее выходят на новые продукты и услуги при меньшей потребности в физическом капитале.

Рис. 1 Интегральная схема человеческого капитала
Основным источником опережающего развития в долгосрочной перспективе становится качество человеческого капитала. Автор теории «нового роста» П. Ромер сформулировал вывод о прямой зависимости темпа экономического роста от величины человеческого капитала [27, с. 3 — 22]. Так, повышение этого качества с уровня, например, Бразилии до уровня США обеспечивает ускорение темпов роста ВВП на 1,5 — 2 % в год. Поэтому потенциально высокая рентабельность инвестиций в развивающихся странах часто сводится на нет низким уровнем комплементарных инвестиций в человеческий капитал, инфраструктуру и научные исследования. Бедные страны извлекают из этих инвестиций сравнительно мало выгод, по сравнению с развитыми странами. Индивидуальный инвестор получает для себя очень мало из тех косвенных выгод, которые создают его вложения в указанные сферы. Следовательно, механизм свободного рынка не обеспечивает нужного уровня комплементарных инвестиций [17, с. 96].
В новой экономике самой эффективной формой накопления становится развитие человеческих способностей, а наиболее выгодными инвестициями— инвестиции в человека, среди которых можно назвать обучение, подготовку на производстве, расходы на здравоохранение, миграцию, поиски информации о ценах и доходах, упущенный заработок, как элемент альтернативных издержек, связанный с тем, что получение образования неизбежно оборачивается потерей доходов (причем этот недополученный доход превышает размер прямых, эксплицитных, издержек на образование); а также моральный ущерб, ибо получение образования—трудная «работа», выполнение которой сопряжено для многих с необходимостью пересиливать себя, а миграция приводит к потере старых друзей и знакомых и порождает так на зываемые издержки миграции. Принятие решения об инвестициях в человеческий капитал основано на сравнении издержек и долгосрочных выгод от образования. Если общие издержки на образование, здравоохранение и миграцию обозначить как С, ежегодную разницу в заработках выпускников высших и средних специальных учебных заведений и выпускников средней школы как ДЖ, а величину ставки дисконтирования как г, то модель инвестиций в человеческий капитал можно формализовать следующим образом:
С< AJ^/^ +г)+А^ / (1+ rf + А^ / (1+г)3 +...+ ДЖ„ / (1 +г)”
Инвестиции целесообразны до тех пор, пока норма отдачи выше (или равна) ставке процента. Данные подтверждают вывод о том, что вложения в человека в долгосрочном интервале выгоднее обычных капиталовложений: так, в Соединенных Штатах после Второй мировой войны норма отдачи от высшего образования колебалась в пределах от 8 до 12 % при средней норме прибыли реального капитала, равной 4 % [9, с. 3], а прирост душевого дохода был на 15—30 % обусловлен повышением образовательного уровня рабочей силы [25, с. 22].
Недаром структура совокупного капитала в странах современной рыночной, т. е. социализированной, экономики претерпела серьезные изменения (см. табл. 4 [приведено по: 21, с. 43]). В крупных отраслях промышленности США ежегодные капиталовложения в основные производственные фонды отстают от затрат на НИОКР по причине постоянного сокращения потребности в материальных ресурсах. Так, экспертные оценки прогнозируют снижение потребности Европейского союза и Соединенных Штатов в вещественных ресурсах за двадцатилетие в 10 раз—с 300 кг на 100 долл. ВВП в 1996 г.—до 30 кг на 100 долл, к 2015 г. [5, с. 30]
Таблица4
Изменения структуры совокупного капитала в странах Запада (в %)
|
1800 г. |
1860 г. |
1913 г. |
1950 г. |
1973 г. |
1997— 1998 гг. |
|
|
Физический капитал |
78—80 |
77—79 |
67—69 |
52—53 |
43—44 |
31—33 |
|
Человеческий капитал |
20—22 |
21—23 |
31—33 |
47—48 |
56—57 |
67—69 |
Следовательно, одной из главных форм богатства, согласно теории человеческого капитала, выступают материализованные в человека знания, а также накопленные научные знания, материализованные в новой технологии.
С другой стороны, исследования Б. Н. Михалевс-кого, Ю. П. Соловьева и А. И. Анчишкина, охватившие 50—60-е годы XX века, выявили довольно парадоксальную ситуацию в советской экономике, когда инвестиции в человеческий капитал, ведущие к накоплению запаса производственных способностей человека, осуществлялись на фоне недостаточного развития технической базы производства. Отечествен ная экономика обладала высококачественным человеческим капиталом, но не создавала возможностей для его полноценного использования. В результате улучшение качественных и количественных параметров человеческого капитала в СССР не сказывалось на характеристиках экономического роста.
Таким образом, постиндустриальное общество обнажает проблем)' соответствия качества человеческого капитала возможностям его адекватного применения в обществе как наиглавнейшее условие социального прогресса.
В ходе проведенного исследования было установлено, что, во-первых, наиболее адекватен совре- менным модификационным процессам общественного развития термин «сетевая постэкономика»; во-вторых, эти изменения, с одной стороны, вносят коррективы в профессиональные компетенции, перенося акцент с исполнительских на творческие характеристики работника, а с другой стороны, повышают статус компетентностно-ориентированного подхода, вытесняющего ЗУНовский квалификационный подход; наконец, в-третьих, роль самих профессиональных компетенций в современном социальном развитии является промежуточной в свете формирования человеческого капитала, выступающего перспективным и практически неисчерпаемым источником экономического роста.
-
1 Без повышения компьютерной грамотности населения и чиновников бюджетные затраты на Программу «Электронная Россия» теряют смысл И Фонд «Новая экономика» И Режим доступа: http://
-
2 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Перевод с англ. М.: Academia, 1999. — 783 с.
-
3 Бондарев Д. Интернет-инкубаторы. История. Модели. Советы начинающим // Сетевой журнал «Мир Интернет».—2004. — 3 мая.
-
4 Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики И Проблемы теории и практики управления. 2003.—№4,—С. 86—91.
-
5 Иноземцев, В. Глобализация: иллюзии и реальность // Свободная мысль—XXI. — 2000. —№ 1. — С. 26—36.
-
6 Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции: Научное издание. — М.: Academia; Наука, 1999. — 724 с.
-
7 Информационно-сетевая экономика в XXI: Материалы Первой евразийской студенческой научной интернет-конференции / Под ред. проф. С. А. Дятлова, проф. В. П. Колесова, А. В. Толстопятенко. —М.: Изд-во Моск, ун-та, 2001. — 527 с.
-
8 Информационные технологии в бизнесе / Под ред. М. Желены.—СПб.: Питер, 2002. — 1120 с.
-
9 Капелюшников Р. Человеческий капитал России: проблемы реабилитации // Общество и экономика. — 1993,—№9—10,—С.З—14.
-
10 Келе Г. Р. Процесс самооценки / Пер. с англ в сокр. О. Букиной.—М.: Московский общественный научный фонд; ООО Издательский центр научных и учебных программ, 1999. —152 с.
-
11 Неоэкономика: Очерки теории и методологии
/Под ред. проф. А. В. Бузгалина.—М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. —244 с.
-
12 Николаева Т. П. Основы информационной экономики: учебное пособие. СПб.: ООО ЛЕКС СТАР, 2001, —128 с.
-
13 Риддерстрале Й., Нордстрем К. Караоке-капи-тализм. Менеджмент для человечества / Пер. с англ. СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб., 2004. —325 с.
-
14 Современный словарь иностранных слов: Ок.
20 000 слов.— М.:Рус.яз., 1992.—740с.
-
15 Струмилин С. Г. Собрание сочинений. — М.: Наука, 1965,—Т. 5,—467 с.
-
16 Тарасенко В. В. Антропология Интернета: самоорганизация «человека кликающего» // Общественные науки и современность.—2000. —№5. — С. 111—120.
-
17 Тодаро М. П. Экономическое развитие / Пер. с англ, под ред. С. Яковлева, Л. Зевина. — М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. — 671 с.
-
18 Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ.
—М.: ООО Издательство ACT, 2002.—669 с.
-
19 Тоффлер О. Третья волна // США—экономика, политика, идеология. — 1982. — №7.—С. 23—28.
-
20 Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов.—М.: Сов. Энциклопеция, 1983. — 840 с.
-
21 Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки // Мировая экономика и международные отношения. — 2001. — №12. — С. 42—49.
-
22 Электронная коммерция. Все о E-commerce. Тенденции и факторы новой экономики // Режим доступа: http://b2b.infos.ru .
-
23 AC Economist Intelligence Unit // В uisiness Week. —1999. — 4 October.
24Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education.—N.Y, 1964.—XVI, 187 p.
25 Current Population Reports. —1974, Series H-60. — N92.—P.22.
-
26 Hutmacher W. Key competencies for Europe // Report of the Symposium Berne, Switzerland 27—30 March, 1996.
-
27 Romer P. The Origins of Endogenous Growth // Journal of Economic Perspectives. — 1994. — Winter. —P.3—22.
-
28 http://www.tula.net/tgpu/resources/ebusiness/ chapterl_2.html
Список литературы Трансформация коммуникативной культуры в условиях перехода к информационному обществу
- «Новая экономика»//Режим доступа: http://www.neweco.ru/main.html?i=124&id=1054908538
- Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/Перевод с англ. М.: Academia, 1999. -783 с.
- Бондарев Д. Интернет -инкубаторы. История. Модели. Советы начинающим//Сетевой журнал «Мир Интернет». -2004. -3 мая.
- Вайбер Р. Эмпирические законы сетевой экономики//Проблемы теории и практики управления. 2003. -№4. -С. 86-91.
- Иноземцев, В. Глобализация: иллюзии и реальность//Свободная мысль -XXI. -2000. -№ 1. -С. 26-36.
- Иноземцев В. Л. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные последствия постэкономической революции: Научное издание. -М.: Academia; Наука, 1999. -724 с.
- Информационно -сетевая экономика в XXI: Материалы Первой евразийской студенческой научной интернет -конференции/Под ред. проф. С. А. Дятлова, проф. В. П. Колесова, А. В. Толстопятенко. -М.: Изд -во Моск. ун -та, 2001. -527 с.
- Информационные технологии в бизнесе/Под ред. М. Желены. -СПб.: Питер, 2002. -1120 с.
- Капелюшников Р. Человеческий капитал России: проблемы реабилитации//Общество и экономика. -1993. -№9-10. -С.3-14.
- Келс Г. Р. Процесс самооценки/Пер. с англ в сокр. О. Бухиной. -М.: Московский общественный научный фонд; ООО Издательский центр научных и учебных программ, 1999. -152 с.
- Неоэкономика: Очерки теории и методологии/Под ред. проф. А. В. Бузгалина. -М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2003. -244 с.
- Николаева Т. П. Основы информационной экономики: учебное пособие. СПб.: ООО ЛЕКС СТАР, 2001. -128 с.
- Ридцерстрале Й., Нордстрем К. Караоке -капитализм. Менеджмент для человечества/Пер. с англ. СПб.: Стокгольмская школа экономики в СПб., 2004. -325 с.
- Современный словарь иностранных слов: Ок. 20 000 слов. -М.: Рус. яз., 1992. -740с.
- Струмилин С. Г. Собрание сочинений. -М.: Наука, 1965. -Т. 5. -467 с.
- Тарасенко В. В. Антропология Интернета: самоорганизация «человека кликающего»//Общественные науки и современность. -2000. -№ 5. -С. 111-120.
- Тодаро М. П. Экономическое развитие/Пер. с англ. под ред. С. Яковлева, Л. Зевина. -М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. -671 с.
- Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. с англ. -М.: ООО Издательство ACT, 2002. -669 с.
- Тоффлер О. Третья волна//США -экономика, политика, идеология. -1982. -№7. -С. 23-28.
- Философский энциклопедический словарь/Гл. редакция: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов. -М.: Сов. Энциклопеция, 1983. -840 с.
- Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки//Мировая экономика и международные отношения. -2001. -№ 12. -С. 42-49.
- Электронная коммерция. Все о E -commerce. Тенденции и факторы новой экономики//Режим доступа: http://b2b.infos.ru.
- AC Economist Intelligence Unit//В uisiness Week. -1999. -4 October.
- Becker G.S. Investment in Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. -N.Y., 1964. -XVI, 187 p.
- Current Population Reports. -1974, SeriesH -60. -N92. -P. 22.
- Hutmacher W. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Berne, Switzerland 27-30 March, 1996.
- Romer P. The Origins of Endogenous Growth//Journal of Economic Perspectives. -1994. -Winter. -P. 3-22.
- http://www.tula.net/tgpu/resources/ebusiness/chapterl_2.html