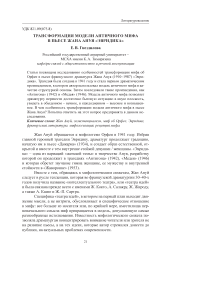Трансформация модели античного мифа в пьесе Жана Ануя «Эвридика»
Автор: Гнездилова Елена Валерьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию особенностей трансформации мифа об Орфее в пьесе французского драматурга Жана Ануя (1910-1987) «Эвридика». Трагедия была создана в 1941 году и стала первым драматическим произведением, в котором автор использовал модель античного мифа в качестве структурной основы. Затем последовали такие произведения, как «Антигона» (1942) и «Медея» (1946). Модель античного мифа позволяет драматургу перевести достаточно бытовую ситуацию в иную плоскость, увидеть в обыденном - вечное, в каждодневном - высокое и возвышенное. В чем особенность трансформации модели античного мифа в пьесе Жана Ануя? Попытка ответить на этот вопрос предпринята в данном исследовании.
Жан ануй, экзистенциализм, миф об орфее, эвридика, французская литература, мифологизация, рецепция мифа
Короткий адрес: https://sciup.org/146281562
IDR: 146281562 | УДК: 821.09(075.8)
Текст научной статьи Трансформация модели античного мифа в пьесе Жана Ануя «Эвридика»
Жан Ануй обращается к мифологеме Орфея в 1941 году. Избрав главной героиней трагедии Эвридику, драматург продолжает традицию, начатую им в пьесе «Дикарка» (1934), и создает образ естественной, открытой и вместе с тем внутренне стойкой девушки / женщины. «Эвриди-ка» – одна из вариаций «женской темы» в творчестве Ануя, разработку которой он продолжит в трагедиях «Антигона» (1942), «Медея» (1946) и которая обретет звучание гимна женщине, ее мужеству и внутренней стойкости в «Жаворонке» (1953).
Вместе с тем, обращаясь к мифологическим сюжетам, Жан Ануй следует в русле тенденции, которая во французской драматургии 30–40-х годов получила название «интеллектуального театра», или «театра идей» и была связана прежде всего с именами Ж. Кокто, А. Салакру, Ж. Жироду, а также А. Камю и Ж.-П. Сартра.
Специфика «театра идей», в котором на первый план выходит движение мысли, а не интриги, обусловливает и специфическое отношение к мифу: все больше из носителя или, по крайней мере, вместилища первоначального смысла миф превращается в модель, допускающую самые разнообразные истолкования. Известность мифологического сюжета позволяла драматургам концентрировать внимание читателя или зрителя не на развязке пьесы, а на тех идеях, которые автор стремился донести до публики, на актуальных проблемах современности.
Как драматурга, связанного с идеями экзистенциализма, Ануя интересуют характеры, внутренние конфликты личности, помещенной в определенные социальные обстоятельства. Критики в большинстве пьес Ануя видят, по крайней мере, в фоновых персонажах, «условные и устойчивые маски» [2, с. 593]. Так, в большинстве пьес Ануя персонажи фона лишены имен. Ануй лишь обозначает их: мать, отец. Отец и мать Терезы Тард («Дикарка»), мать Эвридики, отец Орфея («Эвридика»), отец Жанетты («Ромео и Жанетта») и т. д. Все они как две капли воды похожи друг на друга, и автор подчас даже не заботится о том, чтобы обновить их реплики. Они олицетворяют ту данность жизни, с которой герои сталкиваются независимо от своей воли.
Этому обезличенному миру, представляющему в пьесах Ануя, как правило, старшее поколение, противопоставлены юные герои, чья индивидуальность еще сопротивляется жизни. Однако и они также переходят из пьесы в пьесу Ануя наделенными чувством ненависти к окружающей их пошлости. Трагедия юных героев в пьесах Ануя состоит в том, что они жили до того момента, когда любовь подняла их над обыденностью, и что они вынуждены будут жить дальше в том же мире, в той же среде, законы которой не приемлют. Это противопоставление внутренней чистоты юных героев пошлости окружающего мира и составляет основную тему творчества Жана Ануя, для воплощения которой он обращается к сюжетам античной мифологии и историческим легендам.
Действие пьесы «Эвридика» начинается сценой в буфете провинциального вокзала: «Претензия на роскошь, все обветшалое, грязное. Мраморные столики, обитые потертым красным плюшем» [1, с. 174]. Герои пьесы, как и в «Дикарке», все те же музыканты и артисты, переезжающие с места на место в поисках заработка. Орфей – бродячий музыкант, Эвридика – гастролирующая в провинции актриса. Первая встреча Орфея и Эвридики возникает, словно в полусне, на фоне таинственно-утонченных звуков скрипки:
«Э вр идика : Это вы недавно играли?
Орф ей : Да, я.
Э вр идика : Как хорошо вы играете!
Орф ей : Правда?
Э вр идика : Как называется то, что вы играли?
Орф ей : Не знаю… Я импровизирую…
Эвридика: Жаль… (Смотрит на Орфея.) У вас светло-голубые глаза.
Ор ф ей : А вот цвет ваших глаз определить невозможно.
Э вр идика : Говорят, он зависит от того, о чем я думаю.
Ор ф ей : Сейчас они темно-зеленые, как вода на дне у прибрежных камней.
Э вр идика : Говорят, так бывает, когда я очень счастлива… (Вдруг) : Как, по-вашему, я буду из-за вас очень несчастной?
Орфей: (ласково улыбаясь) . По-моему, нет.
Э врди ка : Я не боюсь быть такой несчастной, как сейчас. Нет. От этого больно, но, пожалуй, даже хорошо. Я боюсь быть несчастной и одинокой, когда вы меня бросите.
Ор ф ей : Я вас никогда не брошу.
Э вр идика : Вы клянетесь в этом?
Орфей : Да.
Э вр идика : Клянетесь моей жизнью?
Орфей: (улыбаясь) : Да» [Там же, с. 184–185]
Первый диалог Орфея и Эвридики, кажется, не кончится никогда. Время как будто остановилось. Только что не имевшие понятия друг о друге ресторанный скрипач и актриса не могут наговориться. В основе того, что их соединило, не страстный порыв, не «солнечный удар» бунинских новелл, а неизъяснимая, им самим неведомая потребность. Это встреча после долгой разлуки. Так встречаются люди, когда-то расставшиеся по своей или не по своей вине, чтобы больше не расставаться никогда. Знакомство Орфея и Эвридики прерывает диалог Люсьены, матери Эври-дики, и ее любовника Венсана – персонажей, воплощающих в пьесе тему пошлой обыденности и тривиальности. Презрительно отзываясь об игре Орфея на скрипке («Опять этот идиот пиликает на скрипке! Просто на нервы действует!»), Люсьена и Венсан вспоминают о своей первой встрече в «Гран-казино», о том времени, когда в моду вошло мексиканское танго. Их диалог пропитан вульгарностью, ложной патетикой. Даже объясняясь в любви, Венсан использует «чужие» слова, с пафосом декламируя монологи Пердикана, героя пьесы А. де Мюссе «С любовью не шутят».
Ануй использует сразу два варианта драматургического конфликта: во-первых, диалогический контрапункт, то есть параллельное развитие независимых диалогических линий; во-вторых, контрапункт музыкальной темы и различных элементов: контрапункт мелодии и сцены; мелодии и отдельного образа, диалога [3, с. 28]. Используя эти приемы, драматург в первых сценах пьесы обозначает конфликт внешнего и внутреннего, истинных чувств и страстей. Эти параллельные миры в начале пьесы способны сосуществовать по причине большой внутренней обособленности, замкнутости. Но едва взгляд юных героев замечает параллельное движение темы «мексиканского танго», как они стремятся прервать звучание «пошлой» мелодии. На место контрапункта приходит открытое столкновение, конфликт, бунт юных героев против законов мира обыденности, пошлости. И если главная линия пьесы – линия Орфея и Эвридики – едина на протяжении всего произведения, то линия, заданная Люсьеной и Венсаном, олицетворяющая собой мир пошлости, дробится на диалоги разных персонажей. Это так называемый «лишний диалог», с помощью которого достигается «более искусное и четкое проведение основной мысли автора» [5, с. 211]. Эту мысль автора выражает в пьесе господин Анри, который говорит о существовании в мире двух человеческих типов, или «двух пород людей»: «Одна порода – многочисленная, плодовитая, счастливая, податливая, как глина: они жуют колбасу, рожают детей, пускают станки, подсчитывают барыши – хороший год, плохой год, – невзирая на мор и войны, и так до скончания своих дней; это люди для жизни, люди, которых трудно представить себе мертвыми. И есть другая, благородная порода – герои. Те, кого легко представить себе бледными, распростертыми на земле, с кровавой раной у виска, они торжествуют лишь один миг – или окруженные почетным караулом, или между двумя жандармами, смотря по обстоятельствам, – это избранные» [1, с. 227].
В соответствии с требованиями театральной рельефности персонажей «многочисленная порода», то есть люди ординарные, гиперболизированы Ануем, они составляют своеобразное гротескное окружение главных действующих лиц. В «Эвридике» к таким «вспомогательным» персонажам относятся Венсан и Люсьена; отец Орфея, готовый флиртовать с любой встретившейся женщиной и называющий этот «пустячок» любовью; вульгарный и циничный импресарио актерской труппы Дюлак и даже коридорный из гостиницы, который время от времени появляется в комнате Орфея и Эвридики со своими репликами и комментариями. Диалог внутри этой контрапунктической линии только внешне кажется смешанным, внутренне же он строго продуман и четко выстроен и таким образом оттеняет чистоту взаимоотношений главных героев пьесы – Орфея и Эвридики.
Начиная рассказывать историю любви Орфея и Эвридики, Ануй акцентирует внимание на эмоциональном состоянии героев. Тонко и точно драматург передает те изменения, которые происходят с человеком, когда он по-настоящему влюблен: все вокруг наполняется особым смыслом, радостью и счастьем. Встреча с искренней, открытой Эвриди-кой придает герою уверенность в себе, своих силах, помогает ощутить себя личностью, самостоятельной и ответственной. Эвридика готова на все ради своего возлюбленного, готова растворить себя в массе ролей, лишь бы Орфей был счастлив: «Я и буду глупенькой, можете поверить! Но и разумной тоже, и мотовкой, и бережливой, и иногда покорной, как одалиска, с которой делают что хотят в постели, а иногда, в те дни, когда вам захочется быть чуточку несчастным из-за меня, чудовищно несправедливой. О, не беспокойтесь, только когда вам захочется… К тому же все это возместят другие дни, когда я буду по-матерински заботлива, утомительно заботлива. Это в дни, когда у вас выскочит фурункул или заболят зубы…» [Там же, с. 193–194].
Эвридика, как и Орфей, очень дорожит этим новым, настоящим и большим чувством, которое внезапно появилось в ее жизни, как озарение, как луч солнца. И в свете этого луча она предстала в глазах возлюбленного чистой и хрупкой, как будто вовсе и не было у нее другой жизни до встречи с Орфеем. Не было ее другой. Но идиллическую картину любви уже в первом акте нарушает появление Матиаса, коллеги Эвридики по труппе. Орфей, еще даже не узнавший имени Эвридики, требует объяснений. Если Эвридика доверяет своим чувствам, то Орфею непременно нужно знать правду о ее прошлом. Орфей требует от нее правды. Она же пытается уберечь его, боится причинить ему боль историей собственной жизни, в которой не все однозначно. Но Орфей неумолим: «Главное не в том, чтобы причинить мне меньше горя! Главное – знать правду!» И Эвридика с доверчивостью ребенка рассказывает Орфею о том, с кем она была до встречи с ним. Это первое своеобразное испытание герои с честью проходят. Орфей обещает Эвридике никогда не думать о тех, других, кто был с ней до него. Потому что именно теперь «все начинается заново». Так заканчивается первое действие трагедии, представляющее своеобразную экспозицию истории Орфея и Эвридики, которую Ануй собирается рассказать. Вместе с тем в нем уже намечены те коллизии, которые приведут к трагедии во втором действии и будут разрешены в финале пьесы.
Главное испытание в отношениях Орфея и Эвридики в пьесе Ануя связано с «испытанием» идей экзистенциальной философии. Проблема ответственности человека за свои поступки, за собственную жизнь становится идейным стержнем пьесы, ее главным внутренним конфликтом. Ануй рассматривает экзистенциальную проблему человеческой личности, которая создается каждым выбором, каждым поступком человека, под необычным ракурсом. Человек, в соответствии с философией экзистенциализма, обречен нести весь груз своих поступков на своих плечах. То есть, будучи приговоренным к свободе, человек тем самым приговорен и к ответственности, ответственности за каждый свой выбор, за каждый свой поступок. Как утверждает Ж.-П. Сартр, «человек есть не что иное, как его проект самого себя. Человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет. Он представляет собой, следовательно, не что иное, как совокупность своих поступков, не что иное, как собственную жизнь» [4, с. 333]. Ж.-П. Сартр, таким образом, лишает человека возможности оправдать свое бездействие, собственную несостоятельность. У людей, замечает философ, нет иного способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения, которое он приводит в качестве примера: «Обстоятельства были против меня, я стою гораздо большего. Правда, у меня не было большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было досуга…». Однако в действительности, как считают экзистенциалисты, нет никакой любви, кроме той, что создает саму себя; нет никакой «возможной» любви, кроме той, которая в любви проявляется.
Ануй, с одной стороны, продолжает традиции экзистенциалистов, с другой, вступает с ними в диалог, демонстрируя, к каким трагическим последствиям может привести безапелляционность некоторых утверждений в подходе к такому чувству, как любовь. Выразителем идей экзистенциальной философии в пьесе Ануя является Орфей. В диалогах главных героев происходит «испытание» философского постулата. От Орфея Эв-ридика узнает, что нельзя выбросить из своей жизни плохих персонажей и оставить только хороших. «Это невозможно, – говорит Орфей. – Теперь они уже прошли, и добрые, и злые. Они совершили свой пируэт в твоей жизни и произнесли свою реплику И такими останутся в тебе навсегда». Мнение Орфея, подкрепленное авторитетом ученых, которые «тоже так думают», становится для Эвридики настоящей трагедией. Она в отчаянии от невозможности исправить собственную жизнь, невозможности стать иной. Даже настоящая любовь не позволит ей отречься от себя вчерашней, стереть из собственной памяти все гнусное и пошлое, с чем она была вынуждена соприкасаться в жизни. Груз прошлого тяготит ее, ответственность за себя вчерашнюю становится непосильным бременем. Благодаря Орфею Эвридика как бы увидела себя в истинном свете, общение с Орфеем стало для нее настоящим, пусть и горьким, откровением. В отчаянии и страхе быть непонятой Эвридика принимает решение уйти от Орфея. Она любит его настолько, что не хочет причинять ему боль той правдой о себе, которая рано или поздно ему откроется. Под банальным предлогом – пойти за покупками – Эвридика покидает Орфея. Ее уход и исчезновение из гостиницы овеяны в пьесе предчувствием трагедии. Ожидание смерти-потери, заложенное в мифологическом подтексте пьесы, создает особое напряжение, придает пронзительное звучание словам Орфея, который не хочет верить тому, что говорит об Эвридике пошлый Дюлак, называя ее своей любовницей. Орфей буквально кричит от боли: «Скажите ей, что я люблю ее! Скажите, что она совсем не такая, какой ее считают другие, на самом деле она такая, какой ее знаю я» [1, с. 238].
Внутренне ожидаемое известие о гибели Эвридики приходит просто и естественно: при выезде из Марселя автобус, в котором ехала Эвридика, столкнулся с автоцистерной. Другие пассажиры просто порезались осколками разбитого стекла, и лишь она одна погибла. Утратив возлюбленную, Орфей Ануя осознает, насколько она ему дорога. «Кем бы она ни была, я все еще люблю ее. Я хочу ее увидеть. О, умоляю вас, мсье, верните мне Эвридику, даже несовершенную. Я хочу, чтобы мне было больно и стыдно из-за нее. Хочу снова потерять ее и убаюкивать, как малое дитя. Хочу бороться, хочу страдать, хочу принять все… Хочу жить» – с такой мольбой
Орфей обращается к господину Анри, молодому человеку в плаще, коммивояжеру смерти. Господин Анри появляется в пьесе в первом действии вскоре после встречи Орфея и Эвридики. С первых же минут их встречи он является свидетелем их «истории». Ануй вводит в действие резонера, который выполняет функцию камертона в той или иной ситуации, испытывая, проверяя на прочность позиции главных героев, Орфея и Эвридики. Именно господин Анри и является проводником Орфея в царство смерти. Однако, в отличие от Ж. Кокто, для Ануя существование мифологического Аида не принципиально. В трагедии «Эвридика» данная тема разрабатывается весьма условно: господин Анри приводит Орфея на ночной вокзал, где обещает встречу с Эвридикой. Слабый свет сигнальных огней, зловещее мерцание холодных рельсов и совершенно пустой вокзал создают атмосферу отдаленности от живого мира. Мерцание сигнальных огней и пронизывающий холод придают обстановке оттенок ирреальности. Символика вокзала помогает автору создать ощущение бесприютности, одиночества человека в мире. Оторванный от рутины жизни, человек на вокзале оказывается в неопределенном состоянии и может проявить себя совершенно неожиданно. Вокзал, соединяющий сегодня с неизвестным, завтра кажется условной границей возможного и невозможного, вероятного и невероятного, перекрестком судеб. Поэтому не случайно вокзал является и местом воскрешения героини в «Эвридике», и местом рождения нового человека в пьесе Ж. Жироду «Зигфрид», и в пьесе Ануя «Пассажир без багажа». Вокзал, самое случайное и «проходное» место, обезличивающий и вместе с тем обнажающий человеческую суть, в «Эвридике» становится местом рождения любви и ее гибели. В отличие от мифологического Орфея, которому было запрещено оглядываться до выхода из Аида, Орфей Ануя может общаться с Эвридикой. Единственное условие – не смотреть на Эвридику. Перед лицом смерти Ануй дает Орфею шанс. Теперь герой знает Эвриди-ку не только идеальную, но и ту, которую представил перед ним Дюлак. Встретив Эвридику, Орфей поверил в то, что встретил свой идеал. Он даже не допускал мысли, что Эвридика могла быть какой-нибудь другой до него. Но теперь, узнав о ее прошлом, он вновь почувствовал себя безумно одиноким в мире лжи и фальши, где даже близкие друг другу люди становятся подобны двум узникам, которые перестукиваются из глубин своих камер. «В мире, где каждый за себя, хоть криком кричи, у каждого свой кислород, своя собственная кровь, каждый крепко заперт, бесконечно одинок в своей шкуре… Прижмешься друг к другу, трешься друг о друга, чтобы хоть чуть-чуть выйти из этого чудовищного одиночества. Мгновенная радость, мгновенный самообман, и снова ты одинок, со своей печенкой, со своей селезенкой, со всеми своими потрохами – вот твои единственные друзья…».
Выход и спасение от безумия одиночества в пьесе Жана Ануя находит Эвридика. Надо только чувствовать друг друга и дорожить тем, что имеешь, любить человека таким, какой он есть. Но как жить? Вот главный вопрос для Орфея XX века. Герой Ануя, как и античный Орфей, нарушает запрет господина Анри и, несмотря на все просьбы и мольбы Эвриди-ки о жизни, смотрит на нее. Теперь они стоят лицом к лицу, разделенные ужасающей тишиной. Именно этот момент в пьесе Ануя является кульминационным. Не только потому, что Орфей теряет Эвридику навсегда, но и потому, что именно эта ситуация «упрощает» отношения. Перед лицом смерти, перед расставанием навсегда нет смысла что-то недоговаривать, опасаться быть неправильно понятым. Правда для героя важнее чувства, важнее любви. Но, к сожалению, она не приносит герою радости и счастья. Для создания объективной картины, для обнаружения той самой правды об Эвридике вызываются все персонажи – Дюлак, Администратор, шофер автобуса, молодой человек, секретарь комиссариата полиции, к которому попало письмо Эвридики. Этот прием, с одной стороны, напоминает «парад масок» Л. Пиранделло. Но, с другой, в этом эпизоде Ануй реализует еще одну проблему экзистенциализма, а именно – проблему другого человека. Точнее, отражения нашего «Я» в другом человеке. Как пишет Ж.-П. Сартр, «мы постигаем себя перед лицом другого человека, и другой так же достоверен для нас, как мы сами. Таким образом, человек, постигающий себя через cogito, непосредственно обнаруживает вместе с тем и всех других, и притом как условие своего собственного существования. Он отдает себе отчет в том, что не может быть каким-нибудь (в том смысле, в каком про человека говорят, что он остроумен, зол или ревнив), если только другие не признают его таковым. Чтобы получить какую-либо истину о себе, я должен пройти через другого. Другой необходим для моего существования, так же, впрочем, как и для моего самопознания» [4, с. 336].
При сопоставлении мнений разных людей мы больше узнаем о том, какой была Эвридика на самом деле и что заставило ее стать любовницей Дюлака. За Эвридику заступаются администратор, шофер автобуса, в котором она погибла. Письмо-исповедь Эвридики, написанное перед смертью, которое с опозданием приносит полицейский, помогает и Орфею осознать, как он был не прав и жесток, добиваясь от Эвриди-ки признания ради признания. «Не знаю, поймешь ли ты меня, я ухожу, потому что сгораю от стыда», – пишет Эвридика. Орфей понимает, насколько внутренне чистой и искренней была Эвридика на самом деле. Но понимает это слишком поздно. В момент истины Эвридика исчезает, как и все другие персонажи. Орфей остается один. Наступает утро. Вокзал начинает жить своей привычной жизнью, как будто ничего и не было. Ни встречи, ни расставания. Жизнь без Эвридики, без любви – замкнутый круг одиночества, из которого невозможно выбраться. Попытка преодолеть одиночество закончилась болью потери. «Человек одинок. Ужасно одинок. И это единственная неоспоримая вещь», – говорит Ор- фей. Жизнь, которую Орфей защищал и отстаивал в споре с господином Анри, теперь без Эвридики теряет всякий смысл. Но удалось бы Орфею и Эвридике сохранить свою любовь, если бы они остались вместе, удалось бы им сохранить чистоту взаимоотношений в мире, где все окутано пошлостью, вульгарностью? И далее Ануй продолжает развивать тему, сопоставляя точки зрения господина Анри, который утверждает: жизнь не пощадила бы любовь Орфея и Эвридики, и с ними произошло бы то же, что происходит с миллионами других мужчин и женщин, утративших любовь в суете будней, и точку зрения Орфея, уверовавшего в то, что, будь с ним рядом Эвридика, все было бы иначе. «Наша любовь длилась бы вечно, – говорит Орфей. – Пока Эвридика не состарилась бы и не поседела бы со мной, пока я не состарился бы рядом с ней». Господин Анри предлагает Орфею обрести вечно юную Эвридику. Герой сначала отказывается принять предложение господина Анри, так как Орфей ненавидит смерть и не хочет умирать. Но, глядя на своего отца, на ту перспективу, которая ждет его в мире, в котором он живет, Орфей принимает предложение Анри – соединиться с Эвридикой. Переход Орфея в иной мир Ануй решает весьма условно. Орфею нужно только выйти из города, подняться на холм у небольшой оливковой рощи. Именно там в девять часов вечера у него должно произойти свидание со смертью, в результате которого Орфей обретает потерянную Эвридику. «Орфей соединился с Эвридикой», – восклицает господин Анри.
Так заканчивается одна из самых лиричных пьес Ануя. И хотя драматург приводит своих героев к смерти, ему чуждо любование этой безнадежностью. Это скорее скорбь о невозможности настоящей, высокой любви в мире мещанской пошлости, стремление передать ощущение неразрешимости противоречий, неосуществимости счастья в современном мире.
Таким образом, избрав миф об Орфее в качестве модели для одной из лучших своих пьес – «Эвридики», Жан Ануй, как следует уже из названия пьесы, делает Эвридику, а не поэта-музыканта центральным персонажем трагедии. Судьба человека, его существование в мире, а не проблемы творческой личности выходят у Ануя на первый план. Такой подход во многом обусловлен особенностями эпохи, в которую была создана пьеса, времени, когда онтологические вопросы обретают первостепенное значение для человека. Поэтому мотивы мифа об Орфее, становясь подтекстом пьесы, позволяют драматургу сосредоточить внимание зрителя не на развязке, а на развитии действия, в основе которого такие актуальные проблемы, как одиночество человека в мире, неосуществимость любви в мире, где все тонет в эгоизме, пошлости, безразличии. Недаром Ануй дал название своему первому сборнику пьес «Черные пьесы» (1942), в который, кроме «Эвридики», вошли «Горностай», «Дикарка», «Пассажир без багажа». Для воплощения темы любви Жан Ануй обратился к антич- ному мифу, модель которого использует в качестве структурной основы пьесы. Рассказав историю Орфея и Эвридики, Ануй выразил свое понимание любви. Эвридика, безусловно, является выражением авторского убеждения в том, что женщина понимает истинный смысл бытия тоньше и правильнее, чем мужчина. Именно Эвридика находит выход и спасение от безумия одиночества в современном мире: «Надо только чувствовать друг друга и дорожить тем, что имеешь, любить человека таким, каков он есть». Античный миф, используемый автором в качестве модели повествования, способствует выявлению причины трагического одиночества современного человека. При этом переосмыслению подвергаются как отдельные мотивы мифа, так и миф в целом. В результате экстраполяции персонажей античного мифа в современную автору реальность создается ощущение откровения. Благодаря Жану Аную мифологема Орфея обретает трогательно-лиричное звучание, а пьеса становится своеобразной притчей о любви XX века.
Russian State Agrarian University – Moscow Agricultural Academy the Department of Public Relations and Speech Communication
Список литературы Трансформация модели античного мифа в пьесе Жана Ануя «Эвридика»
- Ануй Ж. Пьесы: в 2 т. Т. 1. М.: Искусство, 1969. 429 с.
- Зонина Л. Послесловие // Ануй Ж. Пьесы: в 2 т. Т. 2. М.: Искусство, 1969. С. 583-631.
- Лущенкова А. А. Контрапункт в драматургии Жана Ануя: дис.. канд. филол. н.: 10.01.05 / А. А. Лущенкова; Моек. пед. гос. ун-т. М., 1996. 197 с.
- Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1990. С. 319-344.
- Эсенбаева Р. М. Диалог в драмах Жана Ануя // Стилистические проблемы французской литературы / Ленингр. гос. пед. ин-т. Л., 1974. С. 209-217.