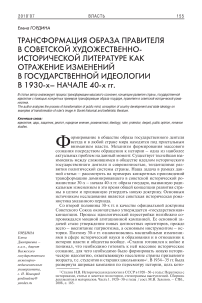Трансформация образа правителя в советской художественно-исторической литературе как отражение изменений в государственной идеологии в 1930-х - начале 40-х гг
Автор: Гордина Елена Дмитриевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Отечественный опыт
Статья в выпуске: 7, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье автор анализирует процесс трансформации массового сознания, концепции развития страны, государственной идеологии с помощью конкретных примеров трансформации образа государя, правителя в советской исторической романистике.
Идеология, царь, защитник, деспот, народное мнение, романистика
Короткий адрес: https://sciup.org/170165428
IDR: 170165428
Текст научной статьи Трансформация образа правителя в советской художественно-исторической литературе как отражение изменений в государственной идеологии в 1930-х - начале 40-х гг
Ф ормирование в обществе образа государственного деятеля всегда и в любой стране мира находится под пристальным вниманием власти. Механизм формирования массового сознания посредством обращения к истории – одна из наиболее актуальных проблем на данный момент. Существует теснейшая взаимосвязь между сложившимся в обществе идеалом исторического государственного деятеля и современностью, тенденциями развития политической системы страны. Наша задача в рамках данной статьи – рассмотреть на примерах конкретных произведений трансформацию доминировавшего в советской исторической романистике 30-х – начала 40-х гг. образа государя, вызванную радикальным изменением в это время общей концепции развития страны в целом и призванную утвердить новую доктрину. Основным источником исследования является советская историческая романистика указанного периода.
ГОРДИНА Елена
Со второй половины 30-х гг. в качестве официальной доктрины Советского Союза окончательно утверждается «государственная» концепция. Процесс идеологической перестройки неизбежно сопровождался мощной агитационной кампанией. Е-е основной задачей стало утверждение новых ценностных ориентиров, прежде всего – воспитание патриотизма, а основным инструментом – история. Поэтому 30-е гг. ознаменовались масштабными изменениями в сфере исторической науки и образования и в отношении к истории власти и общества вообще. «Сталин готовился к войне и понимал, что необходимо готовить к ней массовое историческое сознание, для чего необходимо было формировать новую историческую идеологию, охватывающую население страны призывного возраста, т.е. студентов и старших школьников»1. В 1934–35 гг. была развернута широкая кампания по пересмотру истории, цель кото- рой состояла в переоценке русского прошлого и истории отношений разных народов, входящих в состав Советского Союза.
Одним из важнейших каналов популяризации истории в обществе, ее освещения с определенных идеологических позиций стала художественная литература, прежде всего – сложившийся к тому времени жанр советской исторической романистики.
«Государственная» тема стала одной из основных в советском историческом романе во второй половине 1930-х – начале 40-х гг. Центральное место в данной теме занимал образ правителя, присутствующий в той или иной мере во всех произведениях этого жанра с момента его появления в советской литературе. В выстраивании авторами исторических романов 1920х – начала 40-х гг. образа государственного деятеля заметны две тенденции. Мы рассмотрим их на примерах произведений лауреатов Сталинской (Государственной) премии1, широко популяризировавшихся в 30–40-е гг. и поэтому оказавших существенное влияние на формирование образа государственного деятеля в массовом сознании.
Первая тенденция свойственна произведениям с доминированием историко-революционной тематики в 1920-х (в большей степени) – 30-х гг. и заключается в негативной окраске образа царя. Дискредитация царизма, самодержавия как основного противника революционеров и бунтовщиков была неотъемлемой составляющей произведений, посвященных «родословной революции». Особенно заметно это в отношении тех государей, на чье правление приходится рост народных восстаний и революционных настроений в обществе и, соответственно, борьба с ними (А-лексей Михайлович, все российские императоры XIX – начала XX вв.). Даже в произведениях, не относящихся непосредственно к революционной тематике, она все равно присутствует. Например, в советском военно-историческом романе (у А-.С. Новикова-Прибоя, С.Н. Сергеева-Ценского, А-.Н. Степанова и др.) нарастание антиправительственных, антисамоде-ржавных настроений солдат и матросов является отдельной и очень важной сюжетной линией и сопровождается резко критическим (иногда – даже саркастическим) изображением царей. Примером такого сатирического изображения царя и формирования соответственного отношения к нему у читателей является упоминаемое А-.С. Новиковым-Прибоем в «Цусиме» прозвище, данное «за глаза» Николаю II матросами, – «царскосельский суслик»2.
Именно царь предстает главным виновником самых горьких военных поражений Р-оссии, ее технической отсталости от европейских стран, народной нищеты. Характеризуя правление императора Николая I, С.Н. Сергеев-Ценский в романе «Севастопольская страда» отмечал, что «все педагогические приемы своего достойного воспитателя Николай, сделавшись императором, применил к Р-оссии. Он сек ее розгами, бил шпицрутенами и плетьми, всеми способами подавлял в ней естественную способность мыслить, искоренял в ней малейшее стремление к свободе, наконец, как бы в припадке последней ярости, двинул ее на стену вооруженных сил Е-вропы»3. Когда же «яростный враг революционных идей, крепко сковавший жандармскими цепями огромную страну, сошел, наконец, со сцены»4, Р-оссии «пришлось в наследство пожать то, что упорно и настойчиво сеял он в течение тридцати лет. Для этого трудного и горячего времени жатвы, для этой страды отведена была историей как будто небольшая совсем полоска русской земли, побережье Крыма, всего в два-три десятка километров дли- ною, в несколько километров шириною, но для Р-оссии страда эта оказалась действительно временем огромнейшего на-пряжения»1.
Критерием истинного величия правителя выступает прогрессивность мышления, понимание, что главным достоянием страны, залогом ее успешного развития является использование созидательной, творческой энергии ее народа. Сергеев-Ценский многократно упоминает конкретные проявления крайнего консерватизма императора2, главной ошибкой которого стало требование «от всех в государстве только охраны узаконенного порядка вещей»3 и неумение оценить «творческий талант народа, его замечательных ученых и изобретения»4.
При этом царь, как саркастически замечает писатель, искренне желал «быть образцовым императором, который неустанно печется о нуждах государства», поэтому «с самого утра он уже занимался в своем кабинете очередными государственными делами»5, пристально вникал в массу вопросов6, успевал присутствовать на многочисленных военных смотрах и очень любил позировать художникам.
Описывая процедуру телесных наказаний, ставших постоянной практикой в николаевской Р-оссии, С.Н. Сергеев-Ценский разоблачает псевдогуманность царя, отказавшегося вводить смертную казнь в Р-оссии: «он как будто забыл о пятерых повешенных им декабристах. Однако … двенадцать тысяч палок стоили не одной смертной казни, так как не было и не могло быть человека, который был бы способен вынести такое “наказание” и остаться в живых»7.
Известно, что в период правления Николая I на страницах художественных произведений упорно проводилась параллель, аналогия с Петром I, который стал в это время «излюбленным героем исторической беллетристики»8. При этом писатели приобщались к созданию государственного мифа, заключавшегося в идеализации Петра I, преемником которого рисуется Николай I, вступивший на престол ровно через сто лет после смерти Петра. Задачей этого мифа является формирование в массовом сознании образа царя общенационального, отца народа, попечителя и блюстителя порядка9.
Отчасти именно поэтому, памятуя эту параллель николаевской эпохи, Сергеев-Ценский противопоставляет Николая I Петру Великому: «…колоссального роста и могучего голоса оказалось далеко не достаточно, чтобы стать вторым Петром. … Петр в умственном движении своего народа видел прогресс, Николай – революцию; Петр делал из пирожников министров и из простых кузнецов королей железа и стали; Николай – из людей государственного ума и способностей делал висельников и каторжников, из даровитейших поэтов – солдат. Е-го долголетняя и упорная борьба с мыслью беспримерна в русской истории. … Николай процарствовал лет тридцать, а заморозил Р-оссию на шестьдесят»10.
Другая тенденция в подаче «государственной» темы связана с идеологическим поворотом с середины 30-х гг. в сторону идей патриотизма и сильной государственности, сменивших характерную для 20-х гг. концепцию революционного «отмирания государства». Она заключается в создании в историко-художественной и научной литературе положительного образа правителя – строителя государства. При этом писатели обращались к описанию деятельности таких видных деятелей, как Иван Грозный, Петр Первый, Дмитрий Донской, А-лександр Невский и др. Р-оманы А-.Н. Толстого («Петр Первый»), В.И. Костылева («Иван Грозный»), С. Б-ородина («Дмитрий Донской»), в которых новая трактовка «государственной» темы раскрывается максимально полно, многократно переиздавались и были удостоены высшей государственной награды, которой могло быть отмечено произ- ведение и его автор, – Государственной (Сталинской) премии. Им присущи некоторые общие черты, главная из которых – не просто идеализация главного героя, но сознательное, очень последовательное и логичное выстраивание образа идеального правителя.
Царь изображается как рачительный хозяин, вся деятельность которого подчинена главной цели – сделать Р-оссию великой державой. При этом бороться ему приходится не только с внешними врагами (в центре повествования у Толстого – Северная, у Костылева – Ливонская война, у Б-ородина – борьба с монголо-татарским игом на Р-уси), но и с внутренними: и Иван Грозный, и Петр I вынуждены действовать в атмосфере постоянного противостояния, непонимания, ненависти; они окружены врагами, плетущими заговоры за их спиной, готовящими покушения на них. И если внешний враг, как бы опасен он ни был, очевиден, то внутренние враги тем и страшны, что остаются в тени, об их существовании правители догадываются, но не всегда успевают предупредить их действия, поскольку врагами оказываются самые неожиданные, нередко – близкие к царю, доверенные люди (у Петра – жена Е-вдокия, сын А-лексей, у Ивана – князь Курбский, А-дашев, Сильвестр и др.).
Идея заговора против государя и его вынужденной борьбы с заговорщиками ярче всего выражена именно в романах Толстого и Костылева. Пространство действия романов разделено на черное и белое, друзей и врагов, своих и чужих. Со «своими», кому главный герой доверяет, он ласков, предан, бескорыстен до самоотвержения, с «чужими» – суров, резок, иногда – даже жесток, но всегда справедлив. Особенно сложные для показа читателю с лучшей стороны события и факты (например, опричный погром Новгорода, многоженство Ивана IV, участие Петра в пытке царевича А-лексея и т.д.), мешающие созданию цельного образа строгого, но справедливого правителя, писателями пропускаются, самые лучшие качества и поступки героя описываются максимально подробно. Также большое внимание писатели уделяют трагическим событиям в жизни государя, показывая его, с одной стороны, ранимым, уязвимым, а с другой – сильным, способным выдержать удары судьбы человеком. Таким образом формируется проникновенно-сочувствен- ное и в то же время уважительное отношение к герою произведения, заставляющее читателя переживать и радоваться за него. Например, Иван IV рисуется прекрасным семьянином, глубоко и нежно любившим свою первую жену А-настасию и сыновей. В.И. Костылев убедительно показывает, что смерть А-настасии, ставшая страшной трагедией для Ивана и вызвавшая многие толки о том, что царицу «извели», а также последовавшая через несколько лет смерть митрополита Макария сильно подкосили силы царя, тяжело переживавшего свое душевное одиночество. А-налогично в романе Толстого подается факт разрыва отношений Петра с А-нной Монс после известия о ее измене царю.
Главные герои показаны в динамике, в развитии, писатели показывают становление и трансформацию на протяжении жизни характеров героев, их отношения с близкими и недругами, реакцию на успехи и неудачи. Несмотря на обилие героев и сюжетных линий в романах, писателям удается сохранить четкость повествования. При этом доминирует «государственная» тема, в которую вплетаются все остальные, прежде всего – «народная». «Государственная» тема неотделима от «народной».
Царь как у А-.Н. Толстого, так и у В.И. Костылева выступает защитником народных интересов, смотрящим далеко вперед, в перспективу, но способным понять и сиюминутные нужды и чаяния народа. Петр I похож больше на моряка, плотника, мастерового, а Иван IV беспощадно борется с боярами, желающими распада государства на вотчины и княжества, безнаказанной эксплуатации крепостных. Именно понимание народа, сочувствие ему, умение увидеть в простом человеке лучшие качества является критерием, при помощи которого выстраивается отношение автора (а вслед за ним – и читателя) к тому или иному историческому деятелю.
Таким образом, от резко отрицательного образа самодержца (любого) в 20-х – начале 30-х гг. ракурс показа темы постепенно на протяжении второй половины 30-х гг. трансформируется в сторону апологетики сильного государя, идеи единения царя с народом (а с конца 30-х – начала 40-х гг. – и церковью), что хорошо видно при анализе образов государей в советской художественно-исторической романистике 30-х – начала 40-х гг.