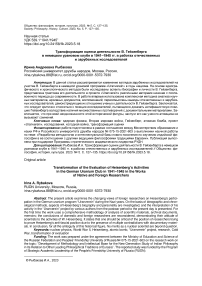Трансформация оценки деятельности В. Гейзенберга в немецком урановом клубе в 1941-1945 гг. в работах отечественных и зарубежных исследователей
Автор: Рыбакова Ирина Андреевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 5, 2023 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается изменение взглядов зарубежных исследователей на участие В. Гейзенберга в немецкой урановой программе «Uranverein» в годы нацизма. На основе идеографического и хронологического методов были исследованы аспекты биографии и личности В. Гейзенберга, представлена трактовка его деятельности в проекте «Uranverein» различными авторами начиная с послевоенного периода до современности. В работе впервые использована комплексная методика анализа научных материалов, архивных документов, воспоминаний; переосмыслены выводы отечественных и зарубежных исследователей, демонстрирующие их отношение ученых к деятельности В. Гейзенберга. Заключается, что следует критично относиться к позиции исследователей, пытающихся доказать антифашистскую позицию Гейзенберга вследствие наличия множественных противоречий с документальными материалами. Заключается, что при всей неоднозначности этой исторической фигуры, заслуги его как ученого-атомщика не вызывают сомнений.
Ядерная физика, вторая мировая война, гейзенберг, атомная бомба, проект «uranverein», исследования, холодная война, трансформация оценки
Короткий адрес: https://sciup.org/149143050
IDR: 149143050 | УДК: 539.1“1941/1945” | DOI: 10.24158/fik.2023.5.18
Текст научной статьи Трансформация оценки деятельности В. Гейзенберга в немецком урановом клубе в 1941-1945 гг. в работах отечественных и зарубежных исследователей
Введение . Данная работа посвящена анализу трансформации взглядов зарубежных исследователей на деятельность одного из основателей квантовой теории, известного физика-теоретика профессора Вернера Карла Гейзенберга в проекте «Uranverein» во время Второй мировой войны. В целом вопрос оценки деятельности ученого в атомном проекте Германии обсуждается давно и широко. Однако в ходе работы над данной статьей была отмечена некая закономерность в выводах исследователей определённой эпохи и страны. В частности, обнаружено, что в ранние послевоенные годы в научных и околонаучных кругах было принято более толерантно смотреть на деятельность немецких физиков в Германии. И, наоборот, после череды внешнеполитических потрясений – распада СССР, объединения Германии – появилось множество научных и научнопопулярных работ, в которых эта деятельность рассматривалась под иным углом, а ее пацифистская составляющая подвергалась сомнению.
С точки зрения не только современников, но и более поздних исследователей немецкого атомного проекта, В. Гейзенберг, приняв в 1942 г. решение возглавить институт кайзера Вильгельма, не сомневался в военном предназначении исследований. Учитывая политическую обстановку в Германии, как писал сам Гейзенберг о том времени1, «невозможно было не понимать, к чему приведет создание немецкими учеными атомной бомбы» (Гейзенберг, 1989). Еще в 1939 г., когда, собственно, и началась история немецкой урановой программы, научное сообщество страны уже открыто обсуждало возможности применения атомной физики в военных интересах. Думается, Гейзенберг был вполне осведомлён2 о докладной записке высшему руководству рейха профессора П. Хартека и доктора В. Грота, в которой утверждалось, что «та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими»3. И если на состоявшемся 16 сентября 1939 г. заседании, определившем контуры «Uranverein», Гейзенберг не присутствовал, то уже 25 сентября он был введен в курс дела доктором Багге (Славин, 1999: 100).
Таким образом, весьма верным кажется вывод о том, что Гейзенберг, осознавая все последствия своей деятельности, активно продолжал работу над проектом. Или, как писал позже тот же Р. Юнг, фактически ее саботировал, переключаясь на второстепенные аспекты, по его мнению, Гейзенберг остался в стране лишь для того, чтобы иметь возможность контролировать ход исследований. Р. Юнг отмечал, что немецкие ученые составляли пассивную партию сопротивления режиму: «В то время, кроме этих троих ученых (Гейзенберг, Вейцзекер и Хоутерманс – примеч. автора) по меньшей мере десять других известных германских физиков согласились с тем, что следует избегать сотрудничества с гитлеровской военной машиной или создавать только видимость такого сотрудничества» (Юнг, 1961).
Д. Кэссиди пишет, что Гейзенберг помогал своим ученикам и коллегам выжить в условиях репрессий со стороны гитлеровского режима: «Вмешательство режима в дела института и попытки Гейзенберга противостоять этому иллюстрируются делом Эдвина Горы. Будучи польским студентом немецкого происхождения, Гора изучал теоретическую физику в Варшаве, когда Германия вторглась в Польшу. Предупрежденный о скором аресте представителей интеллигенции, он вернулся в свой родной город на юге Польши и написал о своем затруднительном положении Гейзенбергу, ведущему немецкому теоретику. Тот пригласил молодого человека в Лейпциг, помог ему поступить в университет и получить работу кондуктора трамвая. Но в 1941 г. гестапо приказало Гейзенбергу исключить Гору из института, поскольку они получили весьма неблагоприятный отчет из родного города Горы о его отношении к рейху. Гейзенберг подчинился без сопротивления, но при поддержке своей жены, которая испытывала материнское сострадание к молодому человеку, незаметно взял его под свое крыло, давал ему частные уроки физики у себя дома и в итоге позволил ему сдать докторский экзамен под руководством Фридриха Хунда в 1942 г. Гора работал до конца войны с Вальтером Герлахом в Мюнхене, прежде чем переехать в Соединенные Штаты» (Cassidy, 2009: 308). Однако тут же Кэссиди делает печальное умозаключение: «Несмотря на свою помощь Горе, Гейзенберг, усердно старавшийся сохранить обособленность своего института, в конце концов часто оказывался бессилен предотвратить трагические последствия событий для своих молодых коллег» (Cassidy, 2009: 308).
Кэссиди настаивает на непреодолимости обстоятельств, которые сформировали позицию Гейзенберга, заложником которых он, по мнению исследователя, стал.
В монографии Кэссиди, которую считают классической и самой полной биографией Гейзенберга, обнаруживается то самое противоречие, которое послужило причиной написания настоящей статьи – автор явно симпатизирует Гейзенбергу и трактует многие факты его биографии и деятельности с этой позиции. Работа Кэссиди, основанная на огромном количестве раннее засекреченных документов, тем не менее, рисует нам облик Гейзенберга-патриота, оппозиционера, пусть и скрытого. Его работа в проекте «Uranverein» до сих пор рассматривается именно в этом ключе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что беспристрастие и объективность в работах, посвященных Гейзенбергу, не прослеживаются в послевоенные годы.
В мировой литературе личность Гейзенберга традиционно рассматривается с точки зрения роли его научной деятельности в сфере ядерной физики. Объективно оценивать ее крайне сложно. Все послевоенные статьи о работе ученых, оставшихся в фашистской Германии, в какой-то мере имели одну цель – реабилитировать их в глазах мирового сообщества. Именно на эту мысль наталкивают распространенные в открытых источниках работы зарубежных авторов. Так, Л. Гровс в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» отмечал: «Дибнер … особенно был враждебно настроен к Гейзенбергу. Взаимоотношения Гейзенберга с Герлахом были самыми теплыми, и оба они считали Дибнера посредственным ученым. Гейзенберг был или по крайней мере вел себя как антинацист, хотя и был большим патриотом Германии» (Гровс, 1964: 209). Стоит сказать, что этого американского генерала трудно заподозрить в участливом отношении к немецким ученым.
Можно отметить, что более объективно к оценке деятельности Гейзенберга в урановом проекте нацистской Германии отнесся германский историк Райнер Карлш. В своей книге «Бомба Гитлера. Тайная история испытаний немецкого ядерного оружия» он указывает, что Гейзенберг был уверен – если война продлится более трех лет, то ее исход будет решать атомное оружие. Кроме того, ученый опасался, что если такую бомбу создадут союзники, то Германия будет подвергнута атомной атаке. Это и был тот фактический мотив, который принудил его остаться и всячески тормозить урановый проект (Karlsch, 2005).
В отечественной литературе практически нет работ по интересующей нас теме, что объясняется тем, что в советский период существовал негласный запрет на публикации результатов исследований, связанных с деятельностью немецких ученых в годы Второй мировой войны.
Из имеющихся наибольший интерес представляет трехтомник «Атомный проект СССР: документы и материалы», вышедший под общей редакцией Л.Д. Рябева1. В нем коллектив авторов не только подробно рассматривает деятельность «Уранового клуба», но и приводит ряд уникальных документов, среди которых – докладная записка Г.К. Жукова по работам в Германии в области создания атомной бомбы2. Данный документ позволяет оценить скрупулезность подхода немцев к процессу ведения как теоретических, так и практических разработок, объемы материалов, а также масштаб исследований, проведенных немцами при разработке ядерной бомбы.
В настоящей работе предпринята попытка более тщательного анализа научной литературы, в которой отражаются личные взгляды исследователей на деятельность В. Гейзенберга в период Второй мировой войны.
Актуальность статьи определяется возможностью проанализировать трансформацию отношения зарубежных исследователей к личности и деятельности В. Гейзенберга в урановом проекте Германии с учетом неизвестных ранее документов.
Материал, методы, обзор . Основным объектом нашего изучения стали работы российских и зарубежных историков о деятельности немецких ученых-физиков, в том числе В. Гейзенберга, в период Второй мировой войны. Был проведен тщательный анализ имеющейся в открытом доступе литературы, в том числе – электронных источников, периодических изданий, в которых авторы, рассматривая происходящие события вокруг немецкой урановой программы в годы Второй мировой войны, так или иначе затрагивали деятельность В. Гейзенберга.
Методологической основой настоящего исследования стали идеографический и хронологический подходы, которые позволили не только исследовать отдельные аспекты жизни и деятельности В. Гейзенберга в описываемый период, но и произвести комплексный анализ материалов и документов, демонстрирующих отношение исследователей к работе ученого в проекте «Uranverein».
Идеографический метод позволил вычленить основные характеристики той эмпирической действительности, в которой осуществлялись исследования деятельности В. Гейзенберга в годы Второй мировой войны. При анализе изменения отношения ученых к нему учитывался факт холодной войны между СССР и коллективным Западом. Было доказано, что политические события, служившие фоном для исследований, отразились на выводах представителей научного сообщества и закрепили среди них на долгие годы однобокую точку зрения на факт деятельности В. Гейзенберга в ядерной программе «Uranverein». Было доказано, что вплоть до начала XXI века в зарубежных и отечественных исследованиях деятельности немецких ученых-физиков в 1939–1945 гг. упор делался на утверждение антинацистской позиции немецких ученых (Юнг, 1961; Ахутин, 1989; Трушин, 2012; Mott, Peierls, 1977 и др.). В частности, у Е.Л. Фейнберга в работе «Вернер Гейзенберг: трагедия ученого» есть прямое указание на то, что последний, оставшись в Германии в сложные для немецкой науки годы, проявил себя патриотом в самом высоком смысле этого слова. (Фейнберг, 1989).
Версия о приверженности В. Гейзенберга идеям пацифизма поддерживается Р. Юнгом в книге «Ярче тысячи солнц», содержащей в том числе воспоминания коллег Гейзенберга – профессоров американских университетов Э. Ферми и Дж. Пеграма, лично знакомых с Гейзенбергом. Оба утверждали, что в разговоре он демонстрировал отсутствие сомнений в фиаско Гитлера и полагал, что бомба за время войны не будет создана, и у мира есть все шансы оставить ядерное оружие лишь в теории (Юнг, 1961).
Использование хронологического метода, благодаря которому удалось глубоко раскрыть суть происходящих исторических процессов, позволило определить, что изменение оценки деятельности В. Гейзенберга в проекте «Uranverein» происходило по нарастающей. Точкой отсчета в этом отношении стала публикация архива Н. Бора1. Далее последовали сенсационные исследования российских и зарубежных ученых. Так, В. Абаринов высказывал сомнения в антинацист-ских взглядах Гейзенберга, основываясь на письмах Н. Бора2. Анализируя их, он приходит к выводу, что затягивание проекта произошло по причине ошибочных расчетов, а не вследствие пацифистского настроя ученых3.
В отечественной науке выделяется статья главного научного сотрудника Института философии РАН А.Ю. Севальникова (2021). В ней автор проводит не только научный анализ документов, в том числе рассекреченных, но и по-новому интерпретирует широко известные факты. Исследователем освещаются масштабные исследования в области физики и химии ядра, проводившиеся с 1939 по 1945 гг. в Австрии, о которых ранее не было известно. Приводится очевидное документальное обоснование коллективного участия немецких ученых в ядерном проекте «Uranverein» (Севальников, 2021: 131). Автор косвенно подтверждает явную осведомленность Гейзенберга в деталях разработки атомной бомбы нацистами. Кроме того, ученый ссылается на архивы и статьи немецких коллег, в частности, на труд историка Райнера Карлша (Karlsch, 2005), который также указывает на неоднозначность фигуры В. Гейзенберга – ученого, который знал о немецкой атомной бомбе и создавал ее без оглядки на последствия применения своего детища. В работе Р. Карлша, содержащей анализ ряда прежде секретных документов, прослеживается скептическое отношение к послевоенным высказываниям В. Гейзенберга о саботаже немецкими учеными ядерной программы Третьего рейха (Karlsch, 2005).
Вторая мировая война обнажила глубокую пропасть между исследователями в странах антигитлеровской коалиции и теми представителями науки, которые остались в нацистской Германии. Однако до изменения политической конъюнктуры в конце 90-х годов XX века деятельность немецких физиков рассматривалась только с оправдательной позиции.
Оценка деятельности Гейзенберга в лаборатории «Uranverein» исследователями в период холодной войны . В 30–40-е гг. XX в. интерес к атомной энергетике в научном мире значительно возрос. Во многом это было связано с открытиями, сделанными к тому времени в квантовой физике. Научные работы по извлечению и использованию внутриатомной энергии урана тут же становились предметом обсуждения учёных из разных стран. В.Н. Кузнецов пишет: «В Англии был открыт нейтрон, в США – позитрон, тяжелый электрон, мезон, во Франции Ф. Жо-лио и Ф. Перрен добились деления ядра урана нейтроном. В Германии конца 1930-х годов научные работы активизировались после открытия О. Ганом и Ф. Штрассманом деления ядра урана» (Кузнецов, 2014: 13).
Немецкая урановая программа, существование которой будет рассматриваться нами через призму участия в ней В. Гейзенберга, берет свое начало весной 1939 г., когда немецкое научное сообщество открыто обсуждало возможности применения атомной физики в военных целях.
По поручению главы Департамента сухопутных вооружений и президента Имперского совета по исследованиям Карла Беккера был составлен доклад о возможностях использования атомной энергии. Обозначенные огромные энергетические возможности расщепляемого ядра атома вызвали интерес у рейхсканцелярии. В связи с этим в сентябре 1939 г. прошло совещание по атомной проблеме, участники которого – К. Дибнер, профессор П. Хартек, Г. Гейгер, З. Флюге, профессор И. Маттаух, Э. Биггс, В. Боте, Г. Гофман и сам В. Гейзенберг, к тому моменту – нобелевский лауреат в области квантовой механики, а также его молодой протеже К. фон Вайзеккер – приняли решение о засекречивании всех данных, связанных с урановой программой, поскольку все проводимые исследования имели двойное назначение.
Уже в 1940 г. было сформировано несколько групп ученых, которые работали по двум направлениям: первые занимались созданием атомной бомбы, вторые – реактора. На основании изученных архивных документов современные исследователи полагают, что в работе было задействовано около 40 научных центров, крупнейших фирм и компаний нацистской Германии (Севальников, 2021: 133). Для ускорения урановых исследований Германией был построен промышленный комплекс по обогащению воды водородом в Норвегии.
В начале Второй мировой войны В. Гейзенберг приступил к работе в качестве научного руководителя Института физики имени кайзера Вильгельма в Берлине вместе с Отто Ганом. В 1942 г. ему было предложено возглавить «Урановый клуб», который к тому времени представлял собой мощный коллектив ученых с мировыми именами, среди которых: Отто Ган, Карл Фридрих фон Вайцзеккер, Лизе Мейтнер (Powers, 1993). Для контроля засекреченного проекта Вернер Гейзенберг был назначен профессором Берлинского университета. Он был политически индифферентной личностью и не скрывал этого, поэтому воспринял приход к власти Гитлера и смену политической идеологии в стране как данность, которая к нему не имеет никакого отношения. Осознавая, что урановый проект может использоваться Германией отнюдь не в мирных целях, Гейзенберг, тем не менее, с воодушевлением присоединился к работе над ним.
Позже, аргументируя свое участие в урановом проекте, В. Гейзенберг напишет, что подтолкнул его к идее остаться в нацистской Германии М. Планк, который убедил его посмотреть на ситуацию под другим углом: «Однако в такой чудовищной ситуации, какую мы наблюдаем сейчас в Германии, поступать правильно уже просто невозможно. Какое решение ни прими, все равно участвуешь в неправде того или иного рода. Поэтому каждый в конце концов должен действовать в одиночку, взять всю ответственность на себя. Давать или выслушивать советы уже не имеет смысла» (Гейзенберг, 1989: 270).
Возвращаясь к трактовке поведения В. Гейзенберга тем же Р. Юнгом, мы находим явные противоречия между действительностью и ее оценкой. Явно оправдывая немецких ученых, не скрывая своего доброжелательного отношения к В. Гейзенбергу, исследователь пишет: «Даже в самой Германии поведение Гейзенберга вызывало сильное возмущение некоторых физиков. Они считали тогда, да и сейчас считают, что, если бы он держал себя по отношению к национал-социализму по-иному, он мог бы не только морально поддерживать всех ученых, находившихся в оппозиции к Гитлеру, но и, как ведущий деятель, вдохновить их на активное сопротивление» (Юнг, 1961: 82). Однако исследователь тут же добавляет: «Они (Гейзенберг и его коллеги – при-меч. автора) опасались, что могли найтись другие, менее щепетильные физики, которые не отказались бы изготовить атомную бомбу для Гитлера. Не только в Нью-Йорке, но и в Далеме не сомневались в том, что наличие такого оружия у фанатичного, ни перед чем не останавливающегося диктатора могло бы принести миру невообразимые бедствия» (Юнг, 1961: 82).
Однако достоверно известно, что в июне 1942 г. В. Гейзенберг на секретном совещании в штаб-квартире Института кайзера Вильгельма, отвечая на вопрос фельдмаршала Мильха о вероятных размерах атомной бомбы, которая нанесет максимальный урон большому городу (вероятно, подразумевались Нью-Йорк, Москва и Лондон – примеч. автора), ответил, что заряд будет «не больше ананаса» (Ирвинг, 2004: 155).
Анализ высказываний зарубежных исследователей о Гейзенберге, вернее, о его деятельности в проекте «Uranverein», впрочем, как и послевоенных статей самого ученого, посвященных тому периоду его жизни и работы, вызывает некий когнитивный диссонанс. С одной стороны, наблюдается явный оправдательный посыл со стороны исследователей. С другой – Юнг, например, пытаясь придать своей книге наибольшую достоверность, размещает на ее страницах выдержки из разговоров и писем ученого времен войны, которые сводят на нет эти старания. Но не нужно забывать, что эта попытка обелить Гейзенберга, которому не все коллеги смогли простить сотрудничество с нацистами (например, С. Гоудсмит, который уничижительно высказывался о работе немецких физиков-ядерщиков над атомной бомбой: «Если бы немецкие учёные могли изготовить атомную бомбу, они, несомненно, изготовили бы её» (Гоудсмит, 1962)), была произведена в тот момент, когда холодная война между СССР и США находилась в самом разгаре. И именно такая позиция – «да, он плохой, но он свой плохой» – была тогда весьма распространённой.
Никто из зарубежных авторов не скрывает, что прогресс в урановых исследованиях, проводимых фашистской Германией, был напрямую связан с личностью В. Гейзенберга. Но ни один из них, кроме, пожалуй, уже упоминавшегося выше С. Гоудсмита, не ставил ему и его коллегам так открыто в вину сотрудничество с нацистами. М. Уокер приводит слова последнего о том, что немецкие ученые совершали серьезные научные ошибки, были высокомерны и самодовольны и усердно служили гитлеровскому режиму (Уокер, 1992: 87). Профессор П.Л. Роуз, уже много позже Гоудсмита, фактически вторит ему (Rose, 1998). В. Абаринов сообщает, что «письма подтверждают то, о чем многие из нас говорили и что я сам написал в книге о Гейзенберге: это был визит врагов, по сути дела – разведывательная миссия (речь идет о визите Гейзенберга и Вайцзеккера в Копенгаген к Н. Бору – примеч. автора)… Легенда состоит в том, что немецкие ученые сопротивлялись Гитлеру, не делая ядерного оружия. Но у меня нет ни одного документа, подтверждающего эту легенду. Версия о том, что ученые сопротивлялись Гитлеру, – фикция»1.
Трансформация оценки деятельности В. Гейзенберга в проекте «Uranverein» в исследованиях первой половины XXI в . Весь послевоенный период участие Гейзенберга в проекте «Uranverein» освещалось с позиции «ненасильственного сопротивления». Так, Р. Юнг пишет: «Четыре фактора способствовали тому, чтобы сорвать создание немецкой атомной бомбы <…> четвертый – это отношение занятых в атомных исследованиях германских специалистов, не стремившихся к успеху. Пользуясь невниманием со стороны властей, они не предпринимали ничего, чтобы преодолеть препятствия и ускорить процесс разработки атомной бомбы (поразительный контраст с немецкими ракетчиками, которые сумели преодолеть безразличие Гитлера к управляемым снарядам и создали свое оружие – «Фау-2»). Наоборот, физики-атомщики с успехом сумели отвлечь в сторону внимание нацистских властей от самой идеи создания такого бесчеловечного оружия» (Юнг, 1961: 124). Можно ли считать это мнение верным? До определённого момента, а именно – до опубликования архива Бора, у исследователей не было весомых поводов не верить словам Гейзенберга. Но теперь появились первые сомнения в его пацифистской позиции. Как уже упоминалось, Гейзенберг был уверен в том, что в случае длительной войны победа будет на стороне страны, создавшей атомную бомбу первой. И сам визит к Бору был не чем иным, как попыткой привлечь на свою сторону старого друга. Гейзенберг приезжал в Копенгаген с секретной документацией и, что вполне вероятно, с одобрения гестапо, для привлечения Бора к работе над атомной бомбой. В своих послевоенных высказываниях, подхваченных исследователями Третьего рейха, Гейзенберг утверждал, что он якобы явился к Бору с единственным намерением предупредить о немецких разработках (Гейзенберг, 1989).
Однако состоявшееся в 2002 г. интервью В. Абаринова и профессора Гарвардского университета Джеральда Холтона2 фактически опровергает слова ученого. Собеседники выразили некоторое недоумение трактовкой упоминания немецкого атомного проекта Гейзенбергом в разговоре с Н. Бором. Якобы Гейзенберг таким завуалированным способом пытался донести эту информацию до союзников. Однако этот разговор имел не ту окраску, какую пытался придать ему после окончания войны сам Гейзенберг. И в качестве аргумента В. Абаринов использует отрывок из письма Бора к Гейзенбергу: «Дорогой Гейзенберг, я прочитал книгу Роберта Юнга “Ярче тысячи солнц”, которая была недавно опубликована на датском языке. И вынужден сказать вам, что глубоко удивлен тем, насколько вам отказывает память в письме к автору книги. Я помню каждое слово наших бесед. В особенности сильное впечатление на меня и на Маргарет, как и на всех в институте, с кем вы и Вайцзеккер разговаривали, произвела ваша абсолютная убежденность в том, что Германия победит и что поэтому глупо с нашей стороны проявлять сдержанность по поводу германских предложений о сотрудничестве. Я также отчетливо помню нашу беседу у меня в кабинете в институте, в ходе которой вы в туманных выражениях сообщили: под вашим руководством в Германии делается все для того, чтобы создать атомную бомбу. Я молча слушал вас, поскольку речь шла о важной для всего человечества проблеме. Но то, что мое молчание и тяжелый взгляд, как вы пишете в письме, могли быть восприняты как шок, произведенный вашим сообщением о том, что атомную бомбу сделать можно, – весьма странное ваше заблуждение. Еще за три года до того, когда я понял, что медленные нейтроны могут вызвать деление в уране-235, а не в уране-238, для меня стало очевидным, что можно создать бомбу, основанную на эффекте разделения урана. В июне 39-го я даже выступил с лекцией в Бирмингеме по поводу расщепления урана, в которой говорил об эффектах такой бомбы, заметив, однако, что технические проблемы реального ее создания настолько сложны, что неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы их преодолеть. И если что-то в моем поведении и можно было интерпретировать как шок, так это реакцию на из- вестие о том, что Германия энергично участвовала в гонке за обладание ядерным оружием пер-вой»1. Автор дополняет свою позицию и воспоминанием одного из сотрудников Бора – С. Розенталя: «Я запомнил лишь то, что Бор был в сильном возбуждении после беседы (с Гейзенбергом) и что он цитировал слова Гейзенберга примерно так: “Вы должны понять, что если я принимаю участие в проекте, то потому, что твердо убежден в его реальности”»2. Указывает он и на воспоминания профессора университета Пенсильвании П.Л. Роуз: «Гейзенберг активно работал с нацистами и говорил ученым в институте, что нацистская оккупация Европы – дело хорошее, что лет через 50 нацисты успокоятся и будут милыми людьми» (Rose, 1998).
Исследуя позицию В. Гейзенберга относительно его участия в проекте «Uranverein», имеет смысл привести также слова еще одного исследователя – Д. Кэссиди, который писал: «Гейзенберг, возможно, знал или сильно подозревал, что Бор связан с учеными союзников через подполье. <...> Широкий исторический контекст, более полный учет взглядов Гейзенберга и его отношения к войне и ядерным исследованиям <...> заставляют с большой долей вероятности предполагать, что, во-первых, он хотел убедить Бора в том, что неизбежная победа Германии – это совсем не плохо для Европы. <...> Во-вторых, он, по всей видимости, хотел использовать влияние Бора, чтобы предотвратить создание бомбы союзниками» (Cassidy, 2009).
К такому же мнению приходит и Р. Карлш. Используя документальные доказательства, он фактически заключает, что атомная бомба была создана и испытана, а Гейзенберг был активным участником этого процесса (Karlsch, 2005). Согласно концепции немецкого историка, которая опирается на огромное количество изученных документов, атомная бомба была создана. И Гейзенберг знал об этом. Трудно не согласиться с Р. Карлшем, который опирался не только на слова непосредственных участников программы, но и на документальные подтверждения. Он указывает, что немецкие учёные были осведомлены о работе друг друга, хотя после войны всячески от этого открещивались (Karlsch, 2005). В результате у представителей научного сообщества сложилось впечатление, что немецкие ученые могли лишь догадываться о результатах работы своих коллег.
Р. Карлш пишет, что подавляющее число послевоенных исследований, которые так или иначе касались этого вопроса, были связаны именно с группой Гейзенберга (Karlsch, 2005). А В. Гейзенберг после войны, как было сказано выше, активно продвигал мысль о собственной антифашистской позиции и подчёркивал, что его исследования носили лишь теоретический характер (Гейзенберг, 1989).
Карлш же взглянул на события того времени под другим углом. И это немедленно отразилось на оценке деятельности В. Гейзенберга в проекте «Uranverein». Традиционно, как пишет автор, обсуждается деятельность двух групп – Гейзенберга и Дибнера. Но, по его мнению, существовали группы так называемого «второго ряда», которые, используя разработки коллег, создали и испытали ядерные бомбы (Karlsch, 2005).
Книга Карлша, несомненно, отличается от прежних исследований по данному вопросу. В период холодной войны немецких ученых, пусть и работавших на «благо Третьего рейха», всячески старались оградить от вопросов о сопричастности к злодеяниям нацистов. Переписывались биографии, задавались «правильные» вопросы в интервью, стыдливо умалчивались неудобные подробности. Начало третьего тысячелетия позволило исследователям взглянуть на все это непредвзято. Исследование Р. Карлша выставляет в негативном свете немецких ученых, связанных с проектом «Uranverein». Оно, несомненно, вызвало новый всплеск интереса к личности В. Гейзенберга и заставило усомниться в его словах, которыми он пытался оправдать свое участие в немецкой урановой программе. Гейзенберг последовательно – в интервью, научных статьях, книгах – проводил мысль о том, что ему и его коллегам была понятна с самого начала бесперспективность создания атомной бомбы в столь краткие сроки. Кроме того, осознавали они и то, что находятся в научном вакууме и не имеют возможности пользоваться достижениями зарубежных физиков-ядерщиков. Но подобные воспоминания В. Гейзенберга входят в противоречие с бесстрастными строчками из личных архивов тех, с кем его сводила судьба в эти непростые годы. И как не вспомнить слова Планка, которые сам Гейзенберг приводит в своей книге «Физика и философия»: «Однако в такой чудовищной ситуации, какую мы наблюдаем сейчас в Германии, поступать правильно уже просто невозможно. Какое решение ни прими, все равно участвуешь в неправде того или иного рода. Поэтому каждый в конце концов должен действовать в одиночку, взять всю ответственность на себя. Давать или выслушивать советы уже не имеет смысла» (Гейзенберг, 1989: 270).
Заключение. По мнению не только современников, но и более поздних исследователей немецкого атомного проекта, В. Гейзенберг стоял у истоков разработки ядерных технологий. И, принимая предложение возглавить институт кайзера Вильгельма, он встал на путь создания атомной бомбы. Было ли это решение принято под страхом уничтожения Германии, чего, как патриот, Гейзенберг не мог допустить, или же он верил, что нацизм несет Европе такое долгожданное и благословенное единение, или же он действительно был пацифистом – мнения на этот счет в научной среде чрезвычайно разнятся.
Являясь политически индифферентной личностью, Гейзенберг воспринял приход к власти Гитлера и смену политической идеологии в стране как данность, которая к нему как к ученому не имеет никакого отношения. И только много позже, уже после разгрома фашистской Германии, Гейзенберг, пытаясь оправдаться, стал придавать своим поступкам и словам другой смысл.
Но документы отражают фактическую информацию. Даже в эпоху холодной войны, когда немецких ученых, оставшихся в нацистской Германии, пытались оправдать всеми способами, исследователи попадали в ловушку беспристрастности архивных свидетельств. Именно в этот период наиболее ярко и проявляется предвзятость зарубежных авторов по отношению к событиям прошлого и конкретным историческим личностям, пытавшихся трактовать имеющиеся данные в своих интересах. Подмена научной объективности индивидуальными взглядами, лояльное отношение к западным ученым – все это нашло отражение в исследованиях, посвященных Вернеру Гейзенбергу и его деятельности в годы Второй мировой войны.
Конец XX – начало XXI века ознаменовался публикацией сенсационных документов из личного архива Н. Бора, рассекречиванием документов советской разведки, изданием книг и статей, посвященных ядерной программе фашистской Германии. Архивные документы послужили толчком для возникновения совершенно иного подхода к оценке деятельности В. Гейзенберга в программе «Uranverein». Неоднозначность его действий и поступков, подтверждённые документальными источниками, стали поводом для изменения отношения и к личности Гейзенберга, и к той роли, которую он сыграл в разработке ядерного оружия нацистами.
Однако важность деятельности ученого в этом проекте, даже без учета этической составляющей, не поддается сомнению. Как бы ни оценивалась она – как несущая разрушение и угрозу миру (Гоудсмит, 1962; Rose, 1998 и др.), как мягкое непротивление режиму (Гровс, 1964; Юнг, 1961; Cassidy, 2009), как сухая научная деятельность, когда разум отсекает человечность и видит лишь научную проблему – занятие «чистой наукой», как говорил сам Гейзенберг в конце 1930-х, – на восприятии личности величайшего физика XX века это не отразилось. В. Гейзенберг остался в научном мире неоднозначной фигурой, сотворившей однозначное чудо – квантовую физику.
Список литературы Трансформация оценки деятельности В. Гейзенберга в немецком урановом клубе в 1941-1945 гг. в работах отечественных и зарубежных исследователей
- Ахутин А.В. Вернер Гейзенберг и философия // Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. С. 361-395.
- Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. М., 1989. 400 с.
- Гоудсмит С. Миссия «Алсос». М., 1962. 190 с.
- Гровс Л. Теперь об этом можно рассказать. М., 1964. 295 с.
- Ирвинг Д. Атомная бомба Адольфа Гитлера. М., 2004. 416 с.
- Кузнецов В.Н. Немцы в советском атомном проекте. Екатеринбург, 2014. 271 с.
- Севальников А.Ю. Венская группа в рамках немецкого ядерного проекта // Vox. Философский журнал. 2021. Т. 17, № 35. С. 131-150. https://doi.org/10.37769/2077-6608-2021-35-10.
- Славин С.Н. Секретное оружие Третьего рейха. М., 1999. 446 с.
- Уокер М. Миф о германской атомной бомбе // Природа. 1992. № 1. С. 82-92.
- Фейнберг Е.Л. Вернер Гейзенберг: трагедия ученого. М., 1989. 40 с.
- Юнг Р. Ярче тысячи солнц: повествование об ученых-атомниках. М., 1961. 280 с.
- Cassidy D.C. Beyond Uncertainty: Heisenberg, Quantum Physics, and the Bomb. N. Y., 2009. 480 p.
- Karlsch R. Hitlers Bombe. Die Geheime Geschichte der Deutschen Kernwaffenversuche. Munchen, 2005. 415 s. (на нем. яз.)
- Powers T. Heisenberg's War: The Secret History of the German Bomb. N. Y., 1993. 640 р.
- Rose P.L. Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project, 1939-1945. California, 1998. 376 р. https://doi.org/10.1525/9780520927162.