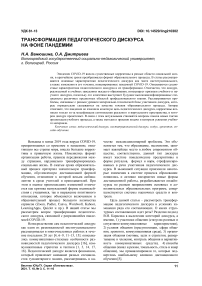Трансформация педагогического дискурса на фоне пандемии
Автор: Ванюшина Наталья Анатольевна, Дмитриева Ольга Александровна
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Лингвистика @vestnik-susu-linguistics
Рубрика: Лингвистическая дискурсология и лингвокультурология
Статья в выпуске: 3 т.18, 2021 года.
Бесплатный доступ
Эпидемия COVID-19 внесла существенные коррективы в разные области социальной жизни, в кратчайшие сроки преобразовался формат образовательного процесса. В статье рассматриваются основные характеристики педагогического дискурса как части институционального, а также изменения в его течении, инициированные пандемией COVID-19. Описываются сущностные характеристики педагогического дискурса и их трансформации. Отмечается, что дискурс, реализуемый в учебных заведениях высшего образования, интегрирует признаки учебного и научного дискурса, поскольку его клиентами выступают будущие высококвалифицированные специалисты различных предметных областей профессионального знания. Рассматриваются проблемы, связанные с разным уровнем материально-технической базы участников дискурса, которые отрицательно сказываются на качестве течения образовательного процесса. Авторы отмечают, что пандемия не изменила конечную цель педагогического дискурса, коррективы возникли только из-за модификации соотношения реального и виртуального пространства, в котором дискурс проистекает. В связи с этим актуальными становятся вопросы поиска новых тактик организации учебного процесса, а также методов и приемов подачи и контроля усвоения учебного материала.
Педагогический дискурс, институциональный дискурс, модус, хронотоп, онлайн-обучение
Короткий адрес: https://sciup.org/147235370
IDR: 147235370 | УДК: 81-13 | DOI: 10.14529/ling210302
Текст научной статьи Трансформация педагогического дискурса на фоне пандемии
Вспышка в конце 2019 года вируса COVID-19, превратившаяся со временем в пандемию, охватившую все страны мира, внесла большие коррективы в привычную жизнь. Изменились формат организации работы, правила передвижения между странами, кардинально трансформировалась социальная жизнь. В сжатые сроки образовательный процесс претерпел значительную трансформацию, обусловленную дистанционной формой обучения, отношение к которой весьма амбивалентно в среде учителей и преподавателей. При этом в оценке произошедших изменений отмечается как критика вынужденной формы взаимодействия с учащимися, так и выражение позитивного отношения, которое объясняется включением в образовательный процесс большого количества сервисов (Zoom, Padlet, Canva, Wordwoll, Kahoot, LearningApps, Quizlet и пр.). В нашей статье мы рассмотрим вопрос трансформации педагогического дискурса, связанной с разразившейся пандемией COVID-19.
Непосредственно сам педагогический дискурс как один из разновидностей институционального рассматривался в многочисленных работах в течение последних 20 лет [4, 6–9, 11–13, 15]: описывались коммуникативно-стилевые особенности разновидностей педагогического дискурса [16], коммуникативные стратегии и тактики [1, 3, 14, 17, 18]. Педагогический дискурс является феноменом, который привлекает внимание разных специалистов гуманитарного знания, рассматриваясь в ка- честве междисциплинарной проблемы. Это объясняется тем, что образование, несомненно, занимает важнейшее место в любом современном обществе, соответственно, данный тип дискурса имеет жесткие поведенческие прескриптивы в форме ритуалов, формул и норм, отрефлексиро-ванных в речи участников педагогического дискурса. В нынешней ситуации произошли некоторые изменения в системе процесса образования: появились и активно внедряются новые формы дистанционной работы, разрабатываются онлайн-курсы по разным направлениям основных и дополнительных образовательных программ, совершенствуются системы оценочных средств и контроля.
Цель данной статьи – рассмотреть трансформацию педагогического дискурса в условиях изменения ряда его составляющих. О каких структурных составляющих идет речь? Разделяя подход В.И. Карасика в выделении категорий дискурса, а именно, 1) участники общения (статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные характеристики), 2) условия общения (пресуппозиции, сфера общения, хронотоп, коммуникативная среда), 3) организация общения (мотивы, цели и стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность коммуникативных средств), 4) способы общения (канал и режим, тональность, стиль и жанр общения), мы проанализировали те, которые подверглись наибольшему влиянию дистанционного обучения [5].
Говоря о педагогическом дискурсе как разновидности институционального, отметим, что для последнего характерна определенная клиширован-ность общения, наличие устойчивых образцов вербального поведения, соответствующих устоявшимся нормам и правилам данной сферы общения и речеповеденческим ситуациям. Ядром институционального дискурса является базовая пара участников: ученик - учитель (аналогично: преподаватель - студент). Именно речевое взаимодействие в условиях изменения канала передачи информации, а также хронотопа и топоса кардинальным образом повлияли на педагогический дискурс.
Эмпирической базой нашего исследования выступают проанализированные и обобщенные данные, полученные в ходе проведения дистанционных занятий по русскому языку как иностранному в мультинациональной иноязычной аудитории. Студенты изучают русский язык для ведения дальнейшей профессиональной или научной деятельности, поэтому первостепенным для преподавателя является формирование научного дискурса вторичной языковой личности в процессе освоения учебной деятельности. Дискурс представлен многообразием текстов научно-тематической направленности в различных жанровых вариантах. Таким образом, в рамках обучения русскому языку как иностранному говорить о степени сформиро-ванности коммуникативных компетенций вторичной языковой личности мы можем, только рассматривая все речевые произведения учащихся как результат дискурсивной деятельности.
Рассмотрим структуру педагогического дискурса и его трансформацию более подробно. Ключевым моментом учебной деятельности является цель, в соответствии с которой разрабатывается план и пути ее достижения. Целью педагогического дискурса, по мнению В.И. Карасика, является социализация личности в самом широком смысле. Ученый относит сюда «объяснение устройства мира, норм и правил поведения, организацию деятельности нового члена общества в плане его приобщения к ценностям и видам поведения, ожидаемым от ученика, проверку понимания и усвоения информации, оценку результатов» [6, с. 29]. Мы считаем возможным в качестве целей говорить о формировании знаний в выбранной отрасли как о постепенно усложняющихся и обогащающихся конструктах и об отмеченной автором социализации личности как об обучении ценностям и нормам, принятым в данном обществе. Для студента-иностранца социализация в иноязычном обществе, знакомство с культурой и традициями являются первостепенной задачей, поскольку от этого зависит успех его интеграции в новое общество и дальнейшее получение знаний для выполнения профессиональной деятельности. Нужно заметить, что пандемия не реформировала цель педагогического дискурса, можно говорить только об изменениях в соотношении реального и виртуального про- странства, в котором дискурс проистекает. Обращение к видеоконференцсвязи, другими словами -каналу коммуникации, активная демонстрация видеоряда, использование учебных сервисов переводит педагогический дискурс фактически в виртуальную реальность. Что касается стратегий, то отметим следующее. Организация деятельности, направленной на создание условий, необходимых для хода учебного процесса, предполагающая совместную работу всех участников, и трансляция знаний как ключевой аспект этой деятельности -именно эти стратегии претерпели наибольшие трансформации. Безусловно, вопросами дистанционного обучения исследователи занимались на протяжении уже долгого времени, были разработаны и запущены онлайн-курсы, многочисленные образовательные платформы, языковые школы. Частичное применение сторонних электронных ресурсов отмечалось при традиционном очном и при смешанном типах обучения. Однако вывести все занятия в онлайн-среду в связи со сложившейся ситуацией оказалось достаточно проблематично. Это привело к многократному увеличению энергозатрат преподавателей на подготовку к проведению занятия, поскольку должны были быть пересмотрены методы работы, материалы - переведены в цифровой формат. При синхронном он-лайн-обучении даже одноуровневых групп возможно вторичное использование только незначительной части учебного материала, поскольку его усвоение в каждой группе неоднородно, актуальность материалов на сторонних цифровых ресурсах меняется, доступ к каким-то источникам может быть прекращен правообладателем. Произошло кардинальное изменение организации деятельности - весь процесс обучения перешел в виртуальное пространство. Актуальными становятся вопросы границ личного пространства и защиты частной жизни, поскольку трансляция занятия ведется не из учебных аудиторий, а из личной квартиры преподавателя и учащегося. Происходит смешение хронотопа: личная территория включается в институциональный дискурс, отмечается разница в часовых поясах, в которых находятся участники образовательно процесса. Именно подобная ситуация вызывает этический конфликт. Может ли преподаватель требовать подключение видеотрансляции у студента, учитывая тот факт, что существует личное пространство, вторжение в которое недопустимо? С этой же позицией остается дискуссионным вопрос, должен ли преподаватель включать видеокамеру, находясь в собственной квартире. С точки зрения методики преподавания и психологии общения, коммуникация более успешно проходит при личном контакте между участниками, сочетающем вербальное и невербальное взаимодействие. Разница во времени может достигать таких размеров, что студенты, находясь на территории своего государства во время проведения занятий, подключаются глубокой но-
Ванюшина Н.А., Дмитриева О.А.
чью, что не может не сказаться на качестве усвоения знаний, поскольку разрушаются привычные ритм и образ жизни студента. Подобное изменение хронотопа реформирует институциональность, официально-деловой стиль нивелируется общей обстановкой проведения занятия. Кроме того, зависимость качества подачи информации и ее восприятия от материально-технической базы участников процесса не позволяет поставить четко очерченные рамки оценивания и контроля. Так, студенты-иностранцы, проживающие в разных странах, имеют неодинаковый доступ к цифровому контенту, поскольку некоторые платформы могут быть заблокированы в той или иной стране. Учитывая этот факт, преподаватель должен пересмотреть наполняемость своего урока и найти альтернативные решения, чтобы все обучающиеся имели равный доступ к информации. Имея возможность виртуально посещать различные занятия и получать знания, зачастую без преподавателя, студент может отказаться от обучения в высшем учебном заведении, что может негативно сказаться на объеме контингента. Преподаватель перестает быть единственно возможным носителем информации, транслятором знаний и помощником в формировании умений, навыков и профессиональных компетенций на основе этих знаний. Этот факт размывает категорию участников педагогического дискурса, когда представитель института не является обязательным элементом. Его место занимает глобальная Сеть. Таким образом, преподаватель должен дать такую информацию, без которой студент не сможет двигаться дальше по пути получения знаний, иначе приобретенные знания будут бессистемными, хаотичными, неполными.
Говоря о статусных отношениях участников педагогического дискурса, мы также отметили некоторую модификацию. Традиционно существует некоторое неравенство участников, преподаватель всегда имел главенствующую функцию, учащиеся, в силу сложившихся традиций, были подчинены. Безусловно, степень «подчиненности» студентов-иностранцев культурно обусловлена. Так, студенты из стран юго-восточной Азии априорно воспринимают преподавателя как главного, безоговорочно занимая позицию ведомого, европейцы более склонны к паритету. Таким образом, этнокультурная специфика диктует правила построения диалога. Перевод обучения в дистанционный формат усложнил межличностную учебную коммуникацию. Основываясь на результатах опросов, проводимых нами на протяжении обучения, можем сказать, что потеря непосредственного зрительного контакта между участниками педагогического дискурса, невозможность считывать невербальные сигналы воспринимаются как нарушение коммуникации, незаинтересованность в ее продолжении. Учащиеся отмечали, что при таком обучении они реже задают вопросы в случае непонимания, что негативно сказывается на результа- тах. Кроме того, находясь в бытовых условиях, участники лишаются институциональности в своем общении, происходит некий сдвиг в сторону неформальности. Таким образом, изначальное неравенство участников традиционной формы педагогического дискурса нивелируется. Рассмотрим также модусы общения между участниками в рамках институционального педагогического дискурса. Л.С. Бейлинсон в статье «Функции институционального дискурса» выделяет три модуса -общение между агентами, общение агента с клиентом и общение между клиентами в связи с их потребностями, которые должен удовлетворить институт [2, с. 143]. В условиях пандемии в общении агента с клиентом мы отмечаем большую интенсификацию высказываний агента, что компенсирует ограничение невербальной коммуникации. Употребление экспрессивных языковых средств в данной связи способствуют увеличению выразительности и степени воздействия речи [10, с. 22], это вынужденная мера для удержания внимания клиентов педагогического дискурса, находящихся на удаленном расстоянии.
Что касается таких стратегий, как оценка и контроль, то они претерпели не столь значительные изменения, трансформировалась лишь форма. Появившиеся обучающие онлайн-платформы, сторонние ресурсы, позволяющие придать привычному контролю более интересные формы, требующие от участников не просто формального выполнения задания, но и творческой составляющей, стали одним из способов повышения мотивации. Современное поколение Z, с которым мы сейчас имеем дело, - поколение цифровое, поэтому именно такая форма подачи информации и контроль ее усвоения является для них предпочтительным. Говоря о ценностной составляющей педагогического дискурса, заключающейся в знакомстве с культурными ценностями, нормами, правилами вербальной и невербальной коммуникации страны изучаемого языка, то есть со всем тем, что способствует успешной адаптации и социализации человека в обществе, мы также можем отметить некоторые изменения. Студенты-иностранцы приезжают в страну не только изучать язык, но и иметь возможность приобщиться к культуре. Онлайн-обучение лишает их языковой среды, возможности общаться с носителями языка и культуры уже в бытовом дискурсе, минуя институциональный. Таким образом, ценностная составляющая оказывается ограниченной, что инициирует поиск альтернативных решений.
Структурирующие процесс обучения дискурсивные формулы являются стабильными идиоматичными конструктами, однако и они претерпели существенные изменения. Так, мы все еще слышим традиционное «Кто сегодня пришел / не пришел на урок», а в данной ситуации уместнее было бы употребить «Кто сегодня подключился / вышел на связь / присоединился к нам». Отмечая клиши- рованность педагогического дискурса, мы не можем не перечислить самые популярные выражения, вошедшие в обиход преподавателя: Меня слышно, видно? Вы слышите меня? Вы видите презентацию? Презентацию видно? (имя учащегося) ты здесь? Что вы видите на экране? Данные выражения являются стимулом для получения обратной связи от реципиентов, находящихся как минимум в другом помещении, как максимум – в другом государстве. В качестве ответа характерны следующие выражения: Да, видно. Да, слышно. Не видно. Не слышно. Вас не слышно. Ничего не видно. Учитывая технические трудности, с которыми столкнулись участники педагогического дискурса, а именно, неустойчивая скорость Интернета, устаревшая техника, для реализации доминантной стратегии дискурса – трансляции знаний, преподаватель постоянно прибегает к контактоустанавливающей тактике с помощью вопросов.
В процессе учебного занятия нередки следующие комментарии: Иван отпал/отвалился. Интернет пропал. У меня плохой Интернет. Без-зумка.
Появились многочисленные сленговые выражения: зумиться, скайпиться, чатиться , активно используемые как клиентами, так и агентами педагогического дискурса. Здесь мы видим следующую продуктивную для русского языка словообразовательную модель: в качестве производящей основы выступает название платформы для связи, которая транскрипцией аналогично воспроизводится в русском языке, к которой добавляются суффиксы инфинитива.
Формат обучения получил следующую вербализацию: удаленка, дистанционка, дистант .
Каникулы во время пандемии: карантикулы. Домашнее задание, самостоятельные задания получили следующее языковое оформление: Я скину-ла/отправила ссылку; я разместила задание на портале; задание доступно до …; я продлила доступ.
В результате языковой игры появилась поговорка: Зум за разум заходит, отражающая моральное напряжение и физическую усталость, возникающие при общении с учащимися посредством видеоконференцсвязи.
Таким образом, мы видим, что особенностью сегодняшних изменений в дискурсе является и появление неологизмов, которые представляют большие группы однокоренных слов, следовательно, необходимость в новом лексикографическом описании рассматриваемых единиц, представляющем рассмотрение их деривационных связей и типологию, является неоспоримой. С точки зрения деривационной семантики, новые единицы являются разнотипными. Мы считаем, что описанные единицы, так стремительно вошедшие в фонд современного русского языка, с окончанием эпидемии перейдут из активного словарного запаса в пассивный, поскольку не будут отражать актуальные вещи.
Мы можем отметить, что педагогический дискурс эпохи пандемии претерпел значительные изменения, в первую очередь, была снижена степень ритуализации. Участники получили некую степень доступа к частной жизни друг друга, что сказалось на ходе обучения в целом. Появившиеся в данной ситуации неологизмы и их многообразие свидетельствуют об актуальности понятия, о стремлении языка отразить и зафиксировать новую реальность. Однако новые единицы не перейдут в активный словарный запас, поскольку после окончания пандемии не будут отражать действительные явления и объекты.
Список литературы Трансформация педагогического дискурса на фоне пандемии
- Антонова, Н.А. Стратегии и тактики педагогического дискурса / Н.А. Антонова // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2007. – Вып.7. – С. 230–236.
- Бейлинсон, Л.С. Функции институционального дискурса / Л.С. Бейлинсон // Вестник ИГЛУ. – 2009. – № 3 (24). – С. 142–147.
- Дрянгина, Е.А. Коммуникативные стратегии педагогического дискурса: обзор работ / Е.А. Дрянгина // Научный журнал КубГАУ. – 2017. – № 131 (07). – С. 1–8.
- Евтюгина, А.А. Научно-педагогический дискурс как тип институционального общения в образовательной среде педагогического вуза / А.А. Евтюгина // Научный диалог. – 2014. – № 3 (27): Психология. Педагогика. – С. 141–153.
- Карасик, В.И. О категориях дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: сб. науч. тр. Волгоград: Перемена, 1998. – С. 185–197.
- Карасик, В.И. Структура институционального дискурса / В.И. Карасик // Проблемы речевой коммуникации: межвуз. сб. науч. тр. – Саратов, 2000. – С. 25–33.
- Карасик, В.И. Характеристики педагогического дискурса / В.И. Карасик // Языковая личность: аспекты лингвистики и лингводидактики: Сб. науч. тр. / ВГПУ. – Волгоград: Перемена, 1999. – С. 3–18.
- Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
- Каратанова, О.А. Лингвистические релевантные нарушения педагогического дискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.19 / Каратанова Ольга Анатольевна. – Волгоград, 2003. – 21 с.
- Мощева, С.В. К вопросу об интенсификации речевого поведения: межуровневая контаминация / С.В. Мощева // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». – 2020. – Т. 17, № 3. – С. 22–25. DOI: 10.14529/ling200304
- Поспелова, Ю.Ю. Педагогический дискурс и его характеристики / Ю.Ю. Поспелова // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2009. – № 1. – С. 307–310.
- Ращупкина, К.С. Интерактивная характеристика учебного дискурса: автореф. дис. … канд. филол. наук / К.С. Ращупкина. – Великий Новгород, 2010. – 20 с.
- Самкова, М.А. Особенности структурной организации учебно-педагогического дискурса / М.А. Самкова // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – № 24 (315). Филология. Искусствоведение. – Вып. 82. – С. 143–147.
- Сорокина, Ю.В. Стратегия самопрезентации как элемент эффективного речевого воздействия в рамках педагогического дискурса / Ю.В. Сорокина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2014. – № 6 (335) Филология. Искусствоведение. – Вып. 88. – С. 89–92.
- Шиукаева, Л.В. Модальность педагогического дискурса / Л.В. Шиукаева // Евразийский гу-манитарный журнал. – 2018. – № 4. – C. 160–163.
- Цинкерман, Т.Н. Коммуникативно-стилевые особенности разновидностей педагогического дискурса / Т.Н. Цинкерман // Вестник Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. – 2012. – № 2 (16). – С. 74–79.
- Bach, К. Linguistic Communication and Speech Acts / К. Bach, М.R. Hamish. – Cambridge, MA, 1999. 18. Stubbs, M. Discourse Analysis: The Sociolin-guistic Analysis of Natural Language / M. Stubbs. – Oxford, 2000.