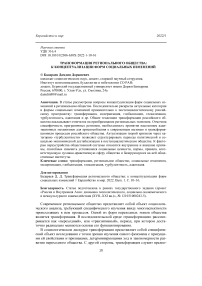Трансформация регионального общества: к концептуализации форм социальных изменений
Автор: Бадараев Дамдин Доржиевич
Журнал: Восточный вектор: история, общество, государство @eurasia-world
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 1, 2022 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены вопросы концептуализации форм социальных изменений в региональном обществе. Последовательно раскрыты актуальные категории и формы социальных изменений применительно к постсоциалистическому российскому пространству: трансформация, модернизация, глобализация, глокализация, турбулентность, адаптация и др. Общие тенденции трансформации российского общества накладывают отпечаток на преобразование региональных экономик. Отмечена специфичность приграничных регионов, необходимость принятия населением адаптационных механизмов для приспособления к современным вызовам и трансформационным процессам российского общества. Актуализация теорий кризисов через категорию «турбулентности» позволяет структурировать периоды политической и социально-экономической дестабилизации в постсоциалистическом обществе. К факторам переустройства общественной системы относятся внутренние и внешние причины, способные изменить устоявшиеся социальные ценности, нормы, правила, соответствующую духовно-нравственную сферу общества и базирующуюся на ней общественные институты.
Трансформация, региональное общество, социальные изменения, модернизация, глобализация, глокализация, турбулентность, адаптация
Короткий адрес: https://sciup.org/148325490
IDR: 148325490 | УДК: 316.4 | DOI: 10.18101/2306-630X-2022-1-10-16
Текст научной статьи Трансформация регионального общества: к концептуализации форм социальных изменений
Бадараев Д. Д. Трансформация регионального общества: к концептуализации форм социальных изменений // Евразийство и мир. 2022. Вып. 1. С. 10–16.
Современное региональное общество представляет собой объект социологического анализа, требующий специфического изучения ввиду многоаспектности происходящих в нем процессов. Одной из форм переходных этапов общества является трансформация. В исследовательской среде «трансформация» рассматривается как «переходный», или «транзитивный», период, при котором достаточно радикально меняются основы его функционирования.
В социологическом дискурсе трансформация представляет собой специфический объект исследования с точки зрения изучения самого феномена с присущими ей свойствами и признаками, детерминирующими ход и закономерности развития переходного общества. С другой стороны, трансформация служит предпо- сылкой преобразования всего общества в процессе перехода от одного состояния в другое, изменения социальных институтов и взаимоотношений между субъектами общества, ценностных основ общества, экономического базиса производственного процесса.
Трансформация общественной системы за 30-летний рубеж становления постсоциалистических стран демонстрирует переформатирование прежнего общественно-политического строя и появление принципиально иной платформы его функционирования. Трансформации подвергается внутреннее содержание переходного общества в результате изменения его экономических и политических основ и ценностного каркаса. Вектор трансформации от социалистического общества к обществу капиталистическому характеризуется учеными как не имеющий ранее аналогов в истории [5, с. 121]. На скорость и масштабы постсоциалистической трансформации отдельных стран повлияла экономическая и идеологическая близость к западному миру с его демократическими ценностями и капиталистическим строем.
З. Бауман, рассматривая нынешнее состояние общества с позиции социологии, применяет теоретический конструкт «текучесть». На современном этапе, по мнению автора, осуществляется переход из эры заранее заданных «референтных групп» в эпоху «универсального сравнения», в которой цель усилий человека по строительству своей жизни безнадежно неопределенна, не задана заранее и может подвергнуться многочисленным и глубоким изменениям прежде, чем эти усилия достигнут своего подлинного завершения [1, с. 13].
В условиях выраженности социальных проблем в обществе и слабореализуемого курса на социальные изменения закономерно возникает вопрос о необходимости проведения дальнейших социальных преобразований с упором на имеющийся практический опыт и научные изыскания в области исследования трансформации и переходного периода. Процессы социально-политических изменений в переходных обществах постсоциалистического периода являются предметом изучения транзитологии, которая возникла на стыке смежных обществоведческих наук. В социологическом ключе в область исследований транзи-тологии можно включить вопросы состояния, причин и последствий социальных процессов и явлений как результат влияния трансформационных процессов. В данном случае в едином комплексе анализируется весь спектр закономерностей общественного устройства и развития.
К одной из значимых форм социальных изменений можно отнести категорию «модернизация». Модернизация трансформирующихся обществ предполагает позитивные изменения в сфере социального благополучия населения, роста производительности и качества труда и как следствие достижение стабильности и устойчивого развития в политической, социально-экономической и культурной областях. В 1970-х и до середины 1980-х гг. теории модернизации и конвергенции были подвергнуты сильнейшей критике. В результате научного давления в конце 1980-х гг. появились обновленные варианты данных теорий с актуальными приставками — нео- и постмодернизация.
Российский исследователь С. А. Кравченко в рамках постмодернизма предлагает применить к конкретному социально-культурному пространству понятие «глоболокальный постмодерн». Исследователь указывает на возможность лучшей адаптации к реалиям постмодерна тех народов, которые сумеют найти ди- 11
намический баланс между глубинными традициями своей культуры, своими базовыми ценностями и требованиями нелинейной социокультурной динамики, выраженными прежде всего в формировании способности к инновационности, достойной самостоятельной жизни в современном глобальном мире с учетом альтернативности и плюрализма постмодернистских обществ [4, с. 32–33].
Современные взгляды исследователей постмодерна делают все более актуальным соотношение понятий «глобализация» и «глокализация» и их практическое воплощение в реальной жизни. В определенной степени они взаимодополняют и сопутствуют друг другу. С другой стороны, глокализация интерпретируется как ответ на вызовы глобализации. Понятие «глобализация» прочно вошло в обыденную жизнь в эпоху постмодерна. Все, что связано с научно-техническим прогрессом, стиранием границ между странами и культурами, сужением пространства и времени, ассоциируется с глобализацией. Она рассмотрена в трудах У. Бека, В. Парето, С. Хантингтона, П. Бергера и др. Исследователи сходятся во мнении, что глобализация вненацио-нальна, имеет отношение к массовой глобальной культуре, ведет к всеобщей унификации, смене идентификационных маркеров, происходит «поглощение» локальных культур. Глокализация же, наоборот, подразумевает сохранение автономности, имеющей отношение к традиционной и локальной специфике этничности, культуры, языка, обычаев и традиций. Глокализация введена в научный оборот английским социологом Р. Робертсоном как инструмент, позволяющий понять культурный капитал, культурные дифференциации, расовую, этническую и половую принадлежность [6, с. 11].
Форсирование процессов глобализации и глокализации происходит при интенсивном развитии глобальных информационных систем, расширении возможностей передачи информации на огромные расстояния за минимальное количество времени. Кроме того, на такой процесс оказывают влияние возможности миграции — перемещения населения с одних территорий на другие за относительно короткий срок. При микшировании этнокультурных особенностей и смешении этнических групп зачастую возникают защитные реакции со стороны локального сообщества с целью последующего сохранения своей самобытности и этнонациональных признаков в современном глобализирующемся мире. Значимая роль в глоболокальных процессах отводится приграничным регионам, выступающим в качестве буферных зон, принимающих на себя основную нагрузку при взаимодействии с внешним миром. Через приграничные территории проходит трансграничное движение товаров, перемещаются туристические потоки и мигранты, формируются межстрановые и межрегиональные интеграционные пространства. «В приграничном взаимодействии непосредственно пересекаются жизненно важные проблемы: внешнеполитические, экономические, демографические, социальные, гуманитарные и т. д. Они одинаково затрагивают интересы многих стран и народов, цементируя их взаимоотношения, поощряя совместные поиски взаимоприемлемых решений проблем» [7, с. 50].
В период трансформационных преобразований наличие существующих проблем и противоречий усугубляется временными кризисами, которые мы определяем как турбулентность, когда административно-территориальная единица оказывается в зоне временной напряженности с характерными признаками нестабильности и кризиса в экономике, политике, социальной и финансовой сферах. Под «турбулентностью» подразумеваются краткосрочные системные кризисы, приводящие к угрозе социальной стабильности/устойчивости в обществе, вызванные совокупностью внешних и внутренних факторов, которые характеризуются резкими негативными колебаниями социально-экономических показателей и индикаторов.
Здесь мы исходим из положений концептуального подхода Т. Парсонса, когда любая общественная система в конечном итоге стремится к стабильности, а нестабильность в общественном развитии рассматривается как результат воздействия совокупности внешних и внутренних факторов. В теории социальных изменений П. Штомпка отмечает: «Все чаще мы рассматриваем кризис как нечто нормальное, типичное, и мы даже удивились бы, если бы такой кризис внезапно исчез. Этот переход от оптимистического мышления в категориях прогресса к пессимистическому мышлению в категориях кризиса — наиболее характерный признак общественного сознания конца XX и начала XXI в. Люди привыкают мыслить в терминах локального или всеобщего кризиса — экономического, политического, культурного. И происходит это не только у нас, но и в наиболее развитых странах Запада» [8, с. 462]. Как видно, развитие социологической мысли относительно ситуативных общественных явлений привело к замене теории прогресса на теорию кризиса. В условиях перманентного характера кризиса одним из его показателей становится турбулентность как ненаправленный процесс, демонстрирующий наиболее выраженные, пиковые характеристики нестабильности в общественном развитии. Несмотря на очевидность периодической кризисности общества теория турбулентности разработана слабо и нуждается в системной концептуализации. Влияние турбулентности на общественное развитие объясняется А. Б. Разлацким [10]. О. Н. Яницкий в своей теоретической конструкции «общества всеобщего риска» интерпретирует турбулентность как крайнюю степень нестабильности мировой экономической и политической системы [9, с. 158].
Для постсоциалистических обществ «турбулентные зоны» были характерны в сложные периоды политической и экономической дестабилизации. Можно условно выделить четыре этапа: 1990–1993; 1998–2001; 2008–2011; с 2019 по настоящее время. Каждый из них рассматривается как сложный и кризисный, поскольку они связаны как с внешними, так и внутренними факторами и, как правило, непосредственно сказывались на социальном благополучии населения и общества. Возникшие в указанные периоды социальные флуктуации до сих пор требуют подробного научного анализа и выявления основных характеристик для описания трансформирующихся обществ и их структурных составляющих. В связи с этим важно выявить ключевые признаки переходного российского общества.
З. Т. Голенкова, раскрывая парадоксы трансформации в условиях глобализации, отмечает, что усиление интеграционных тенденций в деловом мире способствует возрождению локальной, этнической и культурной идентичности; происходит нарастание конфронтаций между государством и гражданским обществом; характерна несогласованность стратегических линий развития общества в экономической системе и демократической составляющей; бюрократия приводит к развитию коррупции и падению профессионализма чиновников; для экономической элиты в новых условиях свойственна недостаточность профессионализма; присутствует рассогласованность идей равенства и справедливости [3, с. 11–14]. В связи с этим выделяются основные факторы трансформации в современном российском обществе: глобализация, в рамках которой происходят одновремен- 13
но интеграция и дезинтеграция; идеологизированность, когда трансформация носит позитивный, но в то же время негативный и разрушительный характер; отсутствие теоретически и практически обоснованной политики социальной реконструкции страны [2, с. 32].
Общие тенденции трансформации российского общества накладывают отпечаток на преобразование региональных экономик, возникновение новых форм собственности вместо прежней государственной монополии, изменение форм внутригосударственного устройства регионов, перезагрузку общественного сознания и его духовно-нравственной компоненты. С трансформацией ассоциируется разгосударствление централизованной собственности через систему приватизации, обернувшееся для населения страны реструктуризацией не только форм собственности, но и системы ценностных и социально-трудовых отношений. Появление класса собственников и наемных работников, отказ от идеологии социально-классовой структуры положили начало формированию новой социальной стратификации российского общества с региональными особенностями на местах. В тесной взаимосвязи с экономическими преобразованиями по образцу западных стран трансформировалась и политическая система общества, но без достаточного учета российской специфики — истории, территории, менталитета, многонациональности, интересов населения страны. Развал экономического базиса многих российских регионов, сельскохозяйственной отрасли, промышленности и других бывших передовых отраслей народного хозяйства, разрушение системы ценностей, открытие границ и «железного занавеса», активное включение в процесс глобализации привели к центростремительному перемещению населения в географическом и социокультурном пространствах. Заметно ускорились процессы миграции населения из сельской местности в более крупные населенные пункты и центральную часть страны, из сельских районов население устремилось в региональные центры и далее в крупные города и столицу страны, многие уехали за границу. Активизация процессов урбанизации привела к еще большей дифференциации и поляризации населения. На каждой из территории субъектов федерации сложилась специфическая ситуация, которая характеризовалась особенностями производственного потенциала каждого региона, степенью трудового участия населения, демографической структурой, отдаленностью от центра, в том числе приграничного положения и уровня ресурсообеспеченности.
Открытие границ, изменение визовой системы в 1990-е гг., совпавшие с социально-экономическим кризисом, детерминировали адаптационные возможности различных слоев населения, следовательно, повлияли на степень социальной мобильности населения приграничных территорий. В большей степени население приграничных районов страны в начальный период трансформационных изменений спекулировало на челночном бизнесе. В то же время на таких территориях активизировались не только экономические, товарно-рыночные процессы, но и ускорилось социокультурное, гуманитарное, этнонациональное взаимодействие с зеркально расположенными территориями. В сибирских регионах такая активность проявилась на приграничных территориях республик Бурятия, Тыва, Алтай, Забайкальского края с симметрично расположенными приграничными регионами Монголии, Казахстана и Китайской Народной Республики.
При адаптации населения к условиям трансформирующегося общества уровень благосостояния, структура доходов и расходов семей становятся показателями реальной картины социально-экономического приспособления. Именно по степени материальной обеспеченности в российских реалиях принято определять степень успешности, применяемых индивидами, их семьями и социальными группами адаптационных стратегий.
С позиции различия населения по экономическим, культурным, социальным и психологическим основаниям можно выявить использование населением различных стратегий адаптации к трансформационным процессам, что говорит о высокой дифференцированности российского общества. В зоне турбулентности усиливается воздействие факторов социальной мобильности, приводятся в действие «социальные лифты», поскольку временно возникают «возможности» для изменения социального статуса в вертикальном и горизонтальном направлениях. Население в условиях турбулентности вынуждено приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, применяя различные адаптационные механизмы.
Проведенный анализ позволяет отметить, что относительно общественной системы социальные изменения подразумевают переход из одной системы в другую путем всестороннего изменения основных сфер производственной и непроизводственной сфер общества. Главными факторами переустройства общественной системы являются внутренние и внешние причины, способные изменить устоявшиеся социальные ценности, нормы, правила, соответствующую духовнонравственную сферу общества и базирующиеся на ней общественные институты. В условиях нарастающего воздействия глобализации трансграничные общества характеризуются специфическими особенностями локальных трансформационных процессов. На это влияют не только внешние факторы, но и внутренняя специфика — географическое местоположение, реструктуризация производственной системы, этнокультурная составляющая, возрождение традиционных видов хозяйственной деятельности.
Список литературы Трансформация регионального общества: к концептуализации форм социальных изменений
- Бауман З. Текучая современность; пер. с англ. / под ред. Ю. В. Асочакова. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 240 с. Текст: непосредственный.
- Голенкова З. Т., Голиусова Ю. В. Новые слои в социальной структуре общества // Идентичности, процессы социальной интеграции и дезинтеграции в трансформирующихся обществах: материалы докладов международной научной конференции (10-12 августа 2014 г., Улан-Батор) / под редакцией В. А. Ядова, Ц. Цэцэнбилэг. Москва; Улаанбатаар: Изд-во ИС РАН, Институт философии, социологии и права АН Монголии, 2014. С. 20-30. Текст: непосредственный.
- Голенкова З. Т. Парадоксы трансформирующихся обществ в условиях глобализации // Избранные труды. Москва: Новый хронограф, 2014. 344 с. Текст: непосредственный.
- Кравченко С. А. Модерн и постмодерн: "старое" и новое видение // Социа 2007. № 9. С. 24-34. Текст: непосредственный.
- Култыгин В. П. Исследования социальной структуры в переходных обществах (Историко-методологический обзор) // Социс. 2002. № 4. С. 121-129. Текст: непосредственный.
- Лешкевич Т. Г. Глобализация и глокализация: pro и contra // Научная мысль Кавказа. 2011. № 3(67). С. 5-14. Текст: непосредственный.
- Черная И. П., Шинковский М. Ю. Приграничный регион в условиях глокализации: теоретико-концептуальные подходы // Пространственная экономика. 2005. № 2. С. 46-60. Текст: непосредственный.
- Штомпка П. Социология социальных изменений; пер. с англ. / под редакцией В. А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с. Текст: непосредственный.
- Яницкий О. Н. "Турбулентные времена": как проблема общества риска // Общественные науки и современность. 2011. № 6. С. 155-164. Текст: непосредственный.
- Razlatsky A. B. Turbulence in Social Development and the Stratification of the Superstructure. URL: http://proletarism.org/abr_turb.shtml (дата обращения: 07.03.2015). Текст: электронный.