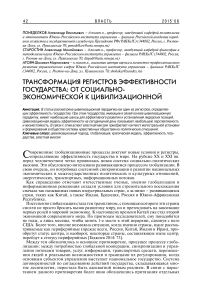Трансформация регистров эффективности государства: от социально-экономической к цивилизационной
Автор: Понеделков Александр Васильевич, Старостин Александр Михайлович, Атоян Шохакат Маргосовна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 6, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрена цивилизационная парадигма как один из регистров, определяющих эффективность государства. При этом государства, имеющие в своей основе цивилизационную парадигму, имеют наибольшие шансы для эффективного развития и установления лидерских позиций. Цивилизационная модель эффективности на сегодняшний день показывает наибольшую перспективность и жизнестойкость. В связи с этим аспект властной миссии приобретает контекст магистральной установки и формирования в обществе системы нравственных общественно-политических отношений.
Цивилизационный подход, глобализация, кратическая модель, эффективность государства, властная миссия
Короткий адрес: https://sciup.org/170167985
IDR: 170167985
Текст научной статьи Трансформация регистров эффективности государства: от социально-экономической к цивилизационной
С овременные глобализационные процессы диктуют новые условия и регистры, определяющие эффективность государства в мире. На рубеже XX и XXI вв. перед человечеством четко проявилась новая система социально-политических вызовов. Это обусловлено интенсивно развивающимся процессом глобализации. В свою очередь, он потребовал системной синхронизации в развитии национальных экономических и межгосударственных политических и культурных отношений, энергетических, транспортных, информационных потоков.
Как справедливо отмечают отечественные ученые, именно глобализация и информационная революция создали условия для стремительного восхождения сначала так называемых новых индустриальных стран, а за ними – развивающихся стран, таких как Китай, а также Индия, Бразилия, Россия и Южно-Африканская Республика.
Постепенно глобализация стала тем трамплином, с помощью которого эти страны смогли не просто бросить вызов развитому миру, но и претендовать на завоевание первых ролей в мировой экономике. К настоящему времени Китай уже стал второй экономикой современного мира. По прогнозам исследователей, ему понадобятся не годы, а лишь месяцы, чтобы занять 1-е место в этой иерархии, сдвинув с него США. Более того, вполне возможна ситуация, когда именно страны, ныне рассматриваемые как периферийные (прежде всего, Россия, Китай, Индия и Иран), приобретут статус центра, и наоборот, некоторые страны, составляющие ныне центр, перейдут к статусу периферийных [Гаджиев 2014: 73].
Между тем обозначилось и основное противоречие, присущее процессу глобализации: между потребностью глобальной кооперации, синхронизации и управления потоками товаров, услуг, информации, транспортных средств, перемещения людей и реальными возможностями и границами их регулирования, когда основным субъектом управления выступает национальное государство. Система договоренностей по согласованию действий государства, складывающаяся многие десятилетия, перестала быть адекватной новым реалиям. В связи с нарастанием данного противоречия более явно обозначились притязания отдельных государств и их альянсов на роль «главного управляющего», лидера в глобализирующемся мире.
Вместе с тем после нескольких попыток реализовать такой проект уже стало вполне очевидным, что такого рода притязания малосостоятельны. Они наталкиваются на серьезные ценностные социокультурные и, возможно, более глубинные социально-экологические препятствия, которые в совокупности можно было бы назвать цивилизационными кодами. Хотя есть и некоторое число (небольшое) инвариантов, которые просматриваются в развитии и функционировании различных социокультурных систем. Но их явно недостаточно, чтобы «вылепить» идентичные или униформные образцы на уровне больших социокультурных систем [Старостин 2014: 58].
Отмеченные тенденции и трудности достаточно давно обозначились и были изучены на микроуровне на примере такого большого федеративного государства, как Россия, где на протяжении нескольких веков формировалась модель межцивилизационной кооперации в развитии континентального уровня.
Обозначенная ситуация обусловила необходимость поиска адекватных моделей происходящего в ценностно-идеологическом (с одной стороны, обоснование универсалистских подходов и практических программ их реализации, с другой – потребность поиска защитных мер, контробоснований пагубности универсализма и большей адекватности плюрализма, с третьей – выработка программ более адекватного познания и понимания развертывающейся сложной ситуации), гносеологическом и в практическом плане.
Системный кризис мирового капитализма вынуждает западных лидеров идти к его разрешению тремя путями. Первый – интеллектуальный поиск решения проблем. Второй – продолжение экспансии во вновь примкнувшие к системе страны. Третий – переход на новые информационные технологии оккупации сознания населения мира. Цивилизационный подход и диалог цивилизаций – одно из интеллектуальных направлений, обсуждающее возможность менее болезненного решения проблем, порожденных западным капитализмом [Фомин 2014: 37].
В этом контексте достаточно востребованным и быстро набирающим авторитет и популярность оказался цивилизационный подход в гуманитарном познании, который ныне доминирует в третьем мире. Однако пока это больше просматривается на уровне исторических описаний, построенных в рамках философии истории, а также в системе ценностно-идеологических построений, нежели на уровне экономических, социологических и политологических знаний, где требуется уже более предметная отраслевая (или сегментная) разработка, хотя эмпирическим путем ряд крупных государств (Япония, Китай, Индия) нащупали специфические механизмы экономического, социального, политического характера, которые позволяют и учесть их цивилизационную специфику, и достаточно эффективно вписаться в процесс глобализации.
Особенное положение в гуманитарном и, в частности, политологическом знании и познании сложилось в странах бывшей советской системы, разрушившейся в конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. Оказалось, что эта система не просто разрушилась, но ее «осколки» были притянуты к разным цивилизационным центрам развития – исламскому, китайскому, западному.
Вместе с тем, наряду с попытками вписать переходные трансформации в некую универсальную социально-политическую и культурную модель, прежде всего западного образца, обнаружилось, что такое вписывание фактически не состоялось, хотя и предпринимаются попытки его реализации на практике по разным траекториям. И более того, в ряде случаев, прежде всего в России и Украине, адекватные траектории не только не удалось найти до сих пор, но даже не получилось приблизиться к ним.
В этих условиях даже осуществляются попытки вернуться к прежней (досоветской) модели цивилизационного развития, в результате чего обозначился ряд векторов движения, связанных с инверсионным развитием (реконструкция прежней системы регионального управления, форм деятельности силовых структур, прежних доминирующих форм духовности, квазисословной структуры и др.).
Все это остро ставит перед гуманитарными науками в России, и прежде всего перед политическими науками, вопрос о поиске новой парадигмы.
Так, новые методологические подходы, в частности, основанные на цивилизационной парадигме, наметились в политической науке в последнее время. Они достаточно определенно разделяются на консервативное и модернизированное течения, которые где-то могут и пересекаться. В работах С.Г. Кара-Мурзы, А. Панарина, А. Дугина, А. Проханова, А. Зиновьева и ряда других исследователей не только даны развернутые суждения, но и обозначены программные подходы, нацеленные на разработку авторских версий цивилизационного подхода к политике [Панарин 2003].
Вместе с тем целостной версии, которая охватывала бы и методологический, и конкретно-научный, и прикладной уровни политической науки в рамках цивилизационного подхода, пока не создано.
В этом плане особого внимания заслуживает обсуждение концептуальных подходов к проблеме эффективности государственного управления, которое пока не привело к созданию адекватной теории, несмотря на наличие немалого числа научных работ, вышедших в последние годы как в России, так и за рубежом. Некоторые ученые отмечают, что такую теорию весьма сложно построить, поскольку государственное управление не только зависит от множества факторов, но и связано с рядом крупных групп интересов и их политическими проявлениями. А в такой системе координат оценочные суждения могут существенно расходиться.
Как показывает анализ, критерии эффективности власти достаточно сложны и зависят не только от функциональных и нормативных требований к ней. В случае государственной власти ее эффективность выступает, с одной стороны, в качестве результирующей удовлетворения интересов населения и элит, а с другой – как соотношение целей и результатов с используемыми средствами (ресурсами). И вместе с тем на оценке эффективности всегда сказывается тот властный контекст, задаваемый элитным сообществом, которое так или иначе обозначает свою политическую миссию.
К сказанному следует добавить еще и то, что представление об эффективности государственного управления связано во многом с контекстуальными, зачастую не оговариваемыми специально аспектами функционирования государственного управления. Ибо государственный аппарат, как мельница, перерабатывает тот продукт, который «засыпает» власть в ее жернова. А сам властный контекст во многом зависит от понимания элитой, политическим классом своей миссии. Между тем сама концепция «властной миссии» может существенно меняться. С нашей точки зрения, можно выделить несколько вариантов «властной миссии», обозначив их термином «кратические модели».
-
1. Модель «политическая эффективность» – нацеленность на удержание государственной власти в руках политической элиты, подбор средств, максимально способствующих этому.
-
2. Модель «экономическая эффективность» – приумножение общественного богатства, расширение сферы элитного и массового потребления. Миссия аккумулируется в идее общества массового потребления.
-
3. Модель «социальная эффективность» – нацеленность на гармоничное развитие (материальное, духовное, витальное) всех слоев общества. Миссия аккумулируется в идее социального государства.
-
4. Модель «геополитическая эффективность» – нацеленность на сохранение и возможное наращивание геополитического положения государства в регионе и в мире. В максималистском варианте миссия аккумулируется в идее сверхдержавы.
-
5. Модель «цивилизационная эффективность» – нацеленность на сохранение и воспроизводство цивилизационных кодов и ценностных матриц. Миссия аккумулируется в идее государства-цивилизации (Россия, Китай, Индия) или цивилизации, представленной ассоциацией, кластером государств (Запад, исламский мир).
Анализ деятельности государств современного мира показывает, что одновременная разновекторная (ориентированная на разные кратические модели)
нацеленность на государственную эффективность практически недостижима. Преобладающими в современном мире выступают модели экономической и социальной эффективности.
В этом контекстуальном русле и происходит, как правило, обсуждение проблем государственной эффективности (мейнстрим), и, видимо, это разумно, ибо обсуждение этих проблем в других контекстах выводит нас на более специфическую проблематику (авторитаризм, тоталитаризм, модели мобилизационного развития, проблематика взаимодействия и столкновения цивилизаций, геополитика).
Тем не менее о проблемах государственной эффективности в рамках кратиче-ской 1 модели политической эффективности чаще всего начинают говорить в периоды дестабилизации и даже смены политических систем и представляющих их элит [Старостин 2009]. Для современной России такой аспект пока актуален, ибо процесс выстраивания новой политической системы не завершен, что демонстрирует даже, казалось бы, рутинная ситуация смены президентов. В наших условиях она все еще воспринимается как форс-мажор и заставляет выстраивать весьма необычные конфигурации во взаимодействии.
Незавершенность постсоветского российского элитогенеза обращает внимание как на основные условия, способствующие продвижению в сторону большей политической эффективности государственной власти, так и на ключевые девиации, снижающие эту эффективность.
Что касается эффективности деятельности элит с точки зрения их влияния на политические процессы, то во многом оно зависит от внутриэлитной диспозиции, от внутриэлитных взаимоотношений.
Иначе говоря, конфликты в элитной среде, наличие неконсолидированных и конфронтирующих между собой элитных групп представляют основную причину нестабильности власти, чреватую ее потерей, и зависят от уровня совместных управленческо-консолидирующих действий.
Общей, или цивилизационной, тенденцией, проявляющейся в деятельности элит относительно управленческо-консолидирующего фактора, выступает усложнение его форм, социальная технологизация и инструментализация воздействий, что в итоге проявляется в используемом элитами арсенале технологий политического (и консолиднрующего) управления.
В этом контексте следует отметить, что разработка концепции кратической модели выводит нас на концепт сильного государства как целостной, сущностной характеристики государства, как самодостаточного, решающего свои внутренние и внешние проблемы, эффективно отвечающего на вызовы и угрозы, способного разрешить кризисы в своем развитии. При соотнесении концептов силы и эффективности государства, государственной власти выявляется, что сила может рассматриваться как доминантная характеристика потенциала государства во внешних и во внутренних отношениях.
Однако следует учитывать, что цивилизационная модель эффективности на сегодняшний день показывает свою наибольшую перспективность и жизнестойкость. Государства, имеющие в своей основе цивилизационную парадигму, обладают наибольшими шансами для эффективного развития и установления лидерских позиций.
В этой связи аспект властной миссии приобретает контекст магистральной установки и формирования в обществе системы нравственных общественнополитических отношений. Цивилизационная модель в этом отношении приобретает качества некого аккумулятора, сохраняющего и воспроизводящего цивилизационные коды и ценностные матрицы. В этом контексте можно спрогнозировать, что государства, не имеющие в своей основе таких цивилизационных матриц, теряют свою эффективность и впоследствии обречены на снижение темпов развития и, как следствие, потерю лидерских позиций.
Следует, прежде всего, подчеркнуть, что сущность и особенности деятельности государственной власти требуют рассматривать ее проявления в политико- управленческом и в политико-аксиологическом аспектах. В политикоаксиологическом отношении проблема оценки эффективности государственной власти связана, прежде всего, с разработкой методов измерения факторов, оказывающих существенное влияние на легитимность власти.
Если ценностный аспект эффективности власти в значительной мере вытекает из субъектно-средовых факторов ее функционирования, то управленческий аспект связан с объектно-функциональными ее проявлениями. Политико-управленческая эффективность зависит от уровня и полноты реализации таких основных функций, как защита государственного строя; предотвращение и устранение социально опасных конфликтов и социальной напряженности; регулирование экономических и социальных отношений; осуществление общенациональных программ экономикофинансового, культурного, научного, образовательного развития; решение проблем социальной защиты и безопасности граждан; осуществление внешнеполитических и оборонных функций.
Следует заметить, что данный аспект эффективности в современном обществе складывается в качестве результирующей организованного взаимодействия различных уровней и ветвей политической и государственной власти. На эффективность влияет баланс власти на общенациональном, региональном и местном уровнях. В государствах, где этот баланс складывается в пользу общенационального уровня при недостаточной развитости самоуправления, наблюдается «перегрев» властей на этом уровне и постепенное увязание в нарастающем объеме социальных и экономических проблем. К тому же нарастает и объем патерналистско-эгалитаристских ожиданий.
С другой стороны, передача значительных властных полномочий на региональный и местный уровень при недостаточности кадрового обеспечения и управленческих навыков и слабой проработанности правовой базы создает эффект бессилия власти в осуществлении социально-экономических функций и обеспечении внутренней безопасности. И то и другое мы наблюдаем в процессе становления новой системы политической власти в России.
Таким образом, цивилизационный подход не только имеет перспективы в условиях российской действительности, но у него также есть значительное число сторонников и рамках развивающегося (незападного) мира. Развитие цивилизационной парадигмы не только позволяет восстановить оригинальные подходы в отечественной политической мысли, найти значительное число партнеров среди политологов развивающихся стран, но и обеспечить интерес к российской политологии как оппоненту западной политологии.
В то же время развитие прикладных политических исследований в рамках цивилизационной парадигмы позволяет создать новые концептуальные заделы для принятия адекватных политических решений и политических действий, обеспечивающих сильные позиции России в современном мире.
Список литературы Трансформация регистров эффективности государства: от социально-экономической к цивилизационной
- Гаджиев К.С. 2014. Метаморфозы глобализации: геополитическое измерение. -Власть. № 11. С. 72-77
- Панарин А.С. 2003. Искушение глобализмом. М.: Эксмо. 416 с
- Старостин А.М. 2009. Эффективность государственного управления в контексте современных кратических теорий. Электоральное пространство современной России. -Политические науки: ежегодник. М.: РОССПЭН. С. 303-331
- Старостин А.М. 2014. Summa Philosophiae в прикладном измерении. Ростов н/Д.: Дониздат. 251 с
- Фомин О.Н. 2014. Цивилизационный подход как идейная платформа политического позиционирования в современном мире. -Власть. № 9. С. 37-41