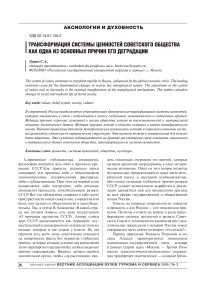Трансформация системы ценностей советского общества как одна из основных причин его деградации
Автор: Бурцев С.А.
Журнал: Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса @vestnik-rguts
Рубрика: Аксиология и духовность
Статья в выпуске: 3 т.3, 2009 года.
Бесплатный доступ
В современной России продолжается стремительная динамическая трансформация системы ценностей, которая увеличилась в связи с вступлением в полосу глобального экономического и системного кризиса. Ведущая причина коренных изменений в жизни общества лежит во внеэкономической и материальной областях человеческого бытия. Ведущая причина лежит в области сознания и имеет метафизическую основу. Внешнее проявление действия метафизических механизмов состоит в коренном изменении системы ценностей, изменении ее иерархической структуры. Эта причина является универсальной для всякого типа общества. Это суждение подтверждается на примере рассмотрения связи изменения социального и материального бытия советского общества, трансформации его системы ценностей.
Ценности, общество, культура, система ценностей
Короткий адрес: https://sciup.org/140209027
IDR: 140209027 | УДК: 02.15.61.130.2
Текст краткого сообщения Трансформация системы ценностей советского общества как одна из основных причин его деградации
Современная публицистика, социология, философия пытаются дать ответ о причинах крушения СССР. Как правило, указанные науки связывают эти причины либо с объективными экономическими, историческими факторами, либо с субъективными. При этом на первый план выдвигаются либо внутренние, либо внешние доминанты процессов, способствующих развалу СССР. Все эти объяснения содержат в себе налет пристрастности в виде сожаления, злорадства или боли; они далеки от объективности и малоубедительны. Так, в статье В. Кожинова «В какой стране мы сегодня живем» есть даже подзаголовок «О причинах крушения СССР». Автору статьи крах СССР представляется как переворот, осуществленный в своекорыстных интересах теми же силами, которые и так стояли у власти. Но эта причина есть всего лишь констатация лежащего на поверхности факта без вскрытия глубинных причин, которые создали условия для реализации этого переворота и крушения без особых видимых причин сверхдержавы. Видимо, должно пройти значительное время, чтобы «на расстоянии» уви- деть гигантские очертания тех причин, которые вызвали крушение сверхдержавы в одно историческое мгновение. Ответ на этот вопрос является не самоцелью, происходящей из нужд чисто исторической науки, а насущной необходимостью, ибо только познание глубинных причин развала СССР создает возможности выработки и реализации адекватных мер для преодоления кризиса во всех сферах государственной и общественной жизни России.
Ответы на вопросы современности покоятся в прошлом, а для России — в ее отдаленном прошлом. Поэтому в ответе на вопрос о роли трансформации системы ценностей в развале Советского Союза и установлении взаимосвязей с аналогичными процессами в истории России может содержаться часть ответа на вопрос «что делать?».
Период правления Михаила Романова и его сына Алексея характеризуется изменением национально-государственной идеи, которая в рамках старой идеи «Москва — Третий Рим» вместо эсхатологически-религиозного содержания приобретает политическое — создание Греко-
Российской империи и политическое наследование византийского престола [5]. Трансформация национально-государственной идеи и системы ценностей в определенной мере инициировалась воздействием такого внешнего фактора, как установление в Западной Европе капитализма с развитой промышленностью и высокой производительностью труда. Капитализм «под страхом гибели заставляет все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя т. н. цивилизацию, т. е. становиться буржуа» [7]. Существующая реальная угроза потери Россией государственной целостности или суверенитета диктовала объективную необходимость создания экономики, аналогичной западной. Вызов, брошенный России Западом, требовал ответа, и этот ответ можно было бы найти на базе существующей национально-государственной идеи и системы ценностей Московской Руси. Их эффективность и плодотворность была доказана историческим опытом сохранения национальной идентичности российского общества в тяжелейших условиях и последующего национального возрождения и становления сильного суверенного государства. Кроме того, национально-государственная идея Московской Руси не имела антагонистических противоречий с соседними мусульманскими странами, и прежде всего с Османской империей, что создавало благоприятные условия для союза с мусульманским миром в противостоянии экспансии западной цивилизации. Но трансформация национально-государственной идеи в сторону создания Греко-Российской империи и политического наследования византийского престола привели к длительному политическому и военному противостоянию России и Турции. Таким образом, ложная национально-государственная идея вынуждала Россию действовать вопреки собственным национальным интересам в пользу третьих стран — стран Запада.
Национально-государственная идея, принятая в XVII веке российской правящей элитой и отторгающая возможность союза с сильными мусульманскими странами, неизбежно приводила Россию к выработке адекватного ответа на вызов Запада путем принятия его ценностей и устройства российского общества по западному образцу, т. е. чтобы устранить угрозу со стороны Запада, надо самим стать его частью.
Несмотря на некоторые успехи в экономической сфере, полностью трансформировать систему ценностей в нужном направлении удалось только в правящих слоях общества. Если на За- паде в результате трансформации ценностей в XVI веке религиозные ценности все-таки продолжали реально осуществлять функции социальной регуляции в период становления капитализма на Западе, то трансформация ценностей в России, окончательно реализованная реформами Петра I, привела к их полному выхолащиванию. В правящей и творческой элитах произошла замена религиозного мировоззрения на атеистическое, а религиозные ценности в верхах российского общества были практически упразднены. Политическая целесообразность и рационализм, приверженность чувственным удовольствиям подорвали нравственные устои общества даже на уровне формального соблюдения традиций. Как пишет русский философ Н. С. Трубецкой, устои русской жизни были не только отвергнуты, но заменены своей противоположностью. Кощунство (всешу-тейший всепьяный собор) стало придворным развлечением, русские бояре принудительно загонялись на пресловутые ассамблеи и принуждались к предосудительному для них поведению, женщины принудительно одевались в бесстыдные платья с глубоким декольте и пр. Русский царь открыто жил с немкой-любовницей, прижил от нее детей и короновал ее под именем императрицы Екатерины. Картина разрушения ценностей была такова, что за Петром не могли пойти русские люди, в которых были сильны религиозные, национальные и нравственные устои [11].
В трансформации системы ценностей российского общества особо стоит вопрос подчинения церкви государству. Ослабленная реформами XVII века, церковь лишилась статуса самостоятельного общественного института и законодательно была подчинена государству. В результате церковных и государственных реформ секуляризованная, канцелярская, синодальная церковь утратила роль духовного лидера и превратилась в один из послушных светской власти институтов государства.
Раскол, прошедший через все общество, стал непреодолимой пропастью между двумя частями общества. Он надолго отделил народ от правящей элиты. Народное сознание воспринимало эту элиту как нечто чужеродное, нехристианское, и это восприятие сохранялось, хотя уже не так остро, на протяжении всего периода династии Романовых. Отчуждение между правящей элитой и народом не только сохранялось, но и углублялось, о чем говорит тот факт, что к XIX веку разговорным языком правящей элиты стал французский язык; многие не знали русского языка, что сви- детельствовало о неприятии ими русской культуры в целом. Такое положение вещей не могло оказаться незамеченным. В творческой части общества стало расти осознание деструктивности такого взаимоотношения между народом и государством и необходимости преодоления раскола общественного сознания. В результате в XIX веке образовалась особая социальная группа — интеллигенция, которая пыталась найти способы преодоления этого отчуждения. Постепенно стало приходить понимание того, что идеи и ценности Запада невозможно механически перенести на российскую почву [4]. Так, П. Я. Чаадаев полагал, что «идея законности, идея права для русского народа — бессмыслица. Никакая сила в мире не заставит нас выйти из того круга идей, на котором построена вся наша история, который … составляет всю поэзию нашего существования» [13, с. 494]. Россия, по словам Герцена, сложилась на иных основаниях, чем Европа, — без римского права. Достоевский и Толстой выступали как дальние последователи митрополита Иллариона, противопоставлявшего закон и Благодать.
Славянофилы понимали, что европеизация загнала самобытное содержание культуры русского народа допетровских времен внутрь, в глубины народной жизни. Но они полагали, что при этом русское общество при возрождении былой культуры вполне совместимо с современными формами бытия и сознания, с железными дорогами, с новейшей наукой и философией. П. Чаадаев, не будучи формально славянофилом, полагал, что «России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней не затронутым людскими страстями и земными интересами». По большому счету и славянофилы, и «западники» понимали, что у России должен быть свой путь развития, своя система ценностей; они расходились только в методах достижения этой системы и пропорций в ее структуре западных и традиционных российских ценностей.
Все поиски «своего» пути, осуществляемые российской общественной мыслью, не рассматривали сколько-нибудь серьезно путь возврата к национально-государственной идее и системе ценностей Московской Руси. Выпадение из сферы внимания этого пути было обусловлено, главным образом, тем обстоятельством, что в XVII и XVIII веках правительственные, военные и церковные посты заняли люди определенного типа, враждебные подлинной национальной стихии, отделенные от нее непреодолимой пропастью религиозного мировосприятия и мировоззрения, глубоко развращенные западными ценностными ориентациями. Перемена курса была фактически невозможна, поскольку слишком много людей было заинтересовано в сохранении статус-кво. Непреодолимым препятствием на пути перемены курса стоял факт перерождения РПЦ из подлинно ортодоксальной в мнимо-ортодоксальную, при всяческом сокрытии правящей элитой данного факта. Так, например, в 1889 году обер-прокурором (главой священного синода) К. Победоносцевым была запрещена публикация подлинных исторических документов о реформе XVII века, подготовленных профессором Московской духовной академии Н. Ф. Каптеревым [5]. Логическим следствием такого состояния правящей элиты и РПЦ было продолжение курса на дальнейшую вестернизацию российского общества.
Таким образом, коренное духовное отчуждение между правящей элитой и народом, принципиальная несовместимость их систем ценностей и ложность национально-государственной идеи привели в конечном итоге Российскую империю к гибели и к приходу к власти коммунистов-большевиков. Именно сохранившиеся в народе остатки христианской православной системы ценностей обусловили принятие идей большевиков, потому что они несли систему ценностей, очень близкую по сущности к христианскому миропониманию. Принципиальным различием этих систем являлось то, что носителем истины объявлялся не Бог, а Вождь, а священное писание христиан заменилось на учение, принесенное мессиями Марксом, Энгельсом и Лениным. Однако и то и другое учение полагало неизбежным построение царства свободы, справедливости и на вершину возносило духовные (религиозные по существу) ценности.
Большевики взамен «вестернизации» всего общественного бытия или восстановления «вестернизированной» правящей элиты предложили новую религию, которая очень напоминала религию отцов, хотя и несколько видоизмененную. Система ценностей, предложенная большевиками, изначально очень хорошо вписалась в остатки христианской системы ценностей. Народ не разглядел здесь главного — подмены истинного блага мнимым, но последнее, будучи симулякром блага, неразличимо для иммунитета общественного организма и потому не было опознано в качестве мнимого блага. Русский народ в этой ситуации уподобился библейскому Исаву, променявшему право первородства на чечевичную похлебку.
Одним из главных обетований новой религии было построение «царства божия» на земле, причем в исторически кратчайшие сроки. «Новоявленный мессия» В. И. Ленин 2 октября 1920 года в речи на III съезде Российского Коммунистического союза молодежи сказал: «Тому поколению, представителям которого около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет. А то поколение, которому сейчас 15 лет, оно увидит коммунистическое общество, и само будет строить это общество» [6]. Прошло время, поколению 15-летних исполнилось 50 и более лет, но обетование не исполнялось. В довершение к этому произошло крушение веры в непогрешимость одного из богов новой веры — И. В. Сталина. Таким образом, был нанесен сокрушительный удар по религиозному сознанию общества и коммунистической системе ценностей. Система ценностей зашаталась. Чтобы спасти положение, XXII съезд КПСС в 1961 году принял новую программу партии и заявил, что к 80-м годам в советском обществе будет в основном построена материальнотехническая база коммунизма, на ее основе после решения задачи воспитания нового человека будет реализован принцип «от каждого по способности, каждому по потребности». Таким образом, было вновь провозглашено обетование коммунистической религии, которое, как и в Средние века, несколько стабилизировало общественное сознание и систему ценностей. Но во главу угла по-прежнему ставились материальные, а не духовные ценности, что привело к трансформации системы (высшие уровни в иерархии ценностей на индивидуальном и общественном уровне заняли материальные ценности). Из коммунистических ценностей в системе остались только материальные, а остальные постепенно отодвигались вниз, и их роль в социальной регуляции обществом, становилась все более незаметной. На уровне правящей элиты даже сама идея построения материальнотехнической базы коммунизма уже перестает упоминаться.
К началу 70-х годов стало ясно, что это обетование вновь не исполнится, и основным лейтмотивом партийных съездов стала тема роста материального благосостояния как главной цели партии. К широким слоям общества приходит осознание коммунистической религии, что в свою очередь приводит к трансформации системы ценностей на всех уровнях общественного бытия. Этот период (70-е — начало 80-х годов ХХ века) следует считать переломным: в этот период сложились объективные предпосылки крушения советского государства. Главной предпосылкой является трансформация системы ценностей советского общества. Социальная регуляция с этого времени осуществляется на основе административного ресурса, поскольку трансформированная система ценностей перестала соответствовать реальной действительности, и управляющие воздействия не могли обеспечить выработку соответствующих потребностей и мотивации для осуществления добровольных социальных действий на всех уровнях общественного устройства.
К концу 80-х годов административный ресурс системы исчерпался, и при отсутствии адекватной системы ценностей управлять обществом и государством стало невозможно. Воздействия внешних факторов и внутренних центробежных сил усиливали нестабильность социальной системы, и в результате парализации механизмов социальной регуляции обществом государство Советский Союз прекратило свое существование.
Одним из факторов, приведших к разрушению общества и государства, является пренебрежительное отношение к «буржуазным» наукам, и особенно философии. Такое отношение привело к отставанию во многих областях народного хозяйства и военной техники. Так, объявление кибернетики реакционной лженаукой привело к необратимым последствиям в отставании в области электроники и создания сложных кибернетических систем.
Пренебрежение генетикой привело к отставанию в сельском хозяйстве, медицине. Еще более трагичны и необратимы для советской системы последствия пренебрежения, и даже враждебности к достижениям «буржуазной» философской мысли. Полное засилье в философии марксистско-ленинского учения и объявление его единственно верным и всесильным сделали советское общество «слепым, неверно идущим по узкой дороге». Отсутствие научно обоснованных методов в области социальной регуляции в духе структурно-функционального анализа и его теоретической основы — развитой аксиологии привело к тому, что после крушения коммунистической религии в распоряжении системы остались только административно-командные ресурсы, а вера в автоматическое действие экономических законов оказалась несостоятельной. По «вере» правящей элиты Советского Союза наличие общественной собственности на средства производства автоматически обеспечивает стабильность процессов управления обществом без особых теорий, не связанных с марксизмом-ленинизмом [3].
Однако когда система ценностей (роль которой практически игнорировалась), основанная на вере в построение «царства Божия» силами самого народа во главе с КПСС, исторически мгновенно потеряла фундаментальную опору, управляемость обществом стала малоэффективной. Эту малую эффективность усугубляли процессы либерализации внутренней и внешней политики. Ослабление позиций Советского Союза на внешнеполитической арене привели к девальвации такой общезначимой ценности, как ощущение себя частью великой державы. Попытка внедрить в «советскую» систему ценностей ценности западной цивилизации и возвести их на высшие уровни иерархии под видом «общечеловеческих» ценностей не привели к сколько-нибудь заметным результатам. Высшие иерархические уровни системы (вера в коммунизм, в непогрешимость коммунистической партии и ее руководства, справедливость, патриотизм и прочие ценности, изложенные в «Моральном кодексе строителя коммунизма») опустели, а то, что назвали «общечеловеческими ценностями» не могло занять их места, прежде всего потому, что правящая и творческая элита сама не разделяли этих ценностей. Но система ценностей, как и природа, не терпит пустоты. Верхние уровни иерархии заняли ценности богатства, удовольствий, социального успеха, презрения к отечественной культуре и пр. Для стремления к овладению этими «благами» не было никаких сколько-нибудь существенных ограничителей. В силу атеистического сознания народа религиозные ценности не могли выступать даже в виде формальных оснований мотивации поведения индивидов и социальной регуляции общественными процессами.
Административно-командная система, которая несколько десятилетий управляла обществом, не способствовала созданию традиций уважения к закону, морально-нравственным и юридически-правовым нормам. Эти ценности воспринимались в качестве абстракций и также не могли являться действенным механизмом социальной регуляции, т. е. эти ниши в иерархии ценностей оказались пустующими. В результате к моменту «перестройки» система ценностей как высший регулятор ценностей превратилась в некий конгломерат, в котором ведущая роль принадлежала низшим ценностям. Опасность деструкции общества состояла в трансформации системы ценностей, которая произошла в обществе в советский период его существования. И правящая, и интеллектуальная элита в качестве ведущей причины потери стабильности советского общества вновь назвали экономические причины. Были приняты (и до сих пор принимаются) меры преимущественно экономического или административного характера. Но при отсутствии системы ценностей, в которой высшие уровни занимают духовные ценности, и при отсутствии единения общества вокруг такой системы ценностей никакие меры не могут дать стойкого положительного результата. Но даже осознание необходимости первоочередного решения проблемы системы ценностей правящей элитой нашей страны и при наличии политической воли и необходимых ресурсов, — все это не приведет к решению проблемы, потому что неизвестно, на каких основаниях строить систему и какие именно ценности ставить на тот или иной уровень.
Решению данной задачи наиболее соответствует исторический метод как средство (инструмент) решения проблемы ценностей, равно как и критерия ценностей, обеспечивающих движение нашего общества не вслепую, без «опорной системы координат», а вполне осознанно и целенаправленно. Теоретическую предпосылку состоятельности исторического метода содержат исследования А. Тойнби, которые доказывают, что цивилизации одного вида, но существующие в разное историческое время, вполне сравнимы и даже эквивалентны: «Если провести эмпирическое исследование фактов человеческой жизни, отраженных в истории цивилизаций, то обнаружится регулярность и повторяемость их, что открывает возможность использовать для анализа сравнительный метод».
В качестве иллюстрации действия механизма указанного метода в аксиологическом контексте можно привести рассказ полководца времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов генерала армии Д. Д. Лелюшенко [4]: «Мы долго размышляли о том, как помочь подразделениям выдержать направление ночью в незнакомой местности. Решили: зажигать по два костра в тылу каждого наступающего в первом эшелоне батальона, чтобы костры находились в створе направления движения, на расстоянии одного километра один от другого. Если командир, оглянувшись, увидит два огня совмещенными в одной плоскости, значит, направление движения выдержано. Но если же два огня будут видны порознь, значит, сбились с курса». Этот малозначительный с исторической точки зрения эпизод человеческо- го бытия содержит в себе все атрибуты всеобщности в плане его рассмотрения с точки зрения аксиологической сущности применения сравнительного и исторического метода. Действительно, стремление понять, куда мы идем, сопоставимо с движением ночью по незнакомой местности. И единственный способ проверки правильности направления — это взгляд назад, в прошлое, в цепь его огней. Если под кострами понимать подлинные ценности нашего народа в его прошлом, а их взаиморасположение — под системой ценностей, то указанные методы при их применении в практической плоскости способны дать плодотворный результат только тогда, когда «костры» будут хорошо видны «командирам подразделений» и их расположение действительно будет указывать правильное направление.
Одним из главных критериев, определяющих состоятельность той или иной ценности, является ее практическая значимость для жизнеспособности общества в исторически критические моменты его существования. В истории России такими моментами являются периоды монголо-татарского ига, смуты начала XVII века, и две великие отечественные войны — 1812 и 1941–1945 годов. В первые два периода Россия должна была бы исчезнуть с карты мира, потому что была физически бессильна против врагов; выстоять, сохранить государственность и самобытность народа позволили только единение всего общества вокруг системы ценностей, основанной на подлинном православии. В войне 1812 года приверженность народа (консервативного большинства) православной системе ценностей стало решающим фактором в победе над объединенными силами Западной Европы — носителями чуждой ему (но родственной правящей элите России) системы ценностей. Только в этом случае у России была возможность дать врагам вооруженный отпор и разгромить государство, покорившее практически все страны Европы. К началу войны 1941 года в России еще существовала система ценностей, родственной христианской системе. А в глубинах народных масс, несмотря на воинствующую пропаганду новой религии, сохранились на высших иерархических уровнях подлинные христианские ценности. Только наличием такой системы ценностей можно удовлетворительно объяснить победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Именно такие исторические ориентиры необходимо брать в качестве критерия истинности ценности. И не забывать при этом, что во всех перечисленных катаклизмах российской истории героем был один и тот же народ, разделяющий преимущественно православную систему ценностей на протяжении почти тысячелетней истории. И современный русский народ пока еще тот же самый народ, который самобытно и независимо существовал на просторах Евразии на протяжении последнего тысячелетия.
Определенного рецепта или разработанного метода построения разделяемой системы ценностей в настоящее время нет. Но уже сейчас можно определить опасности, которые могут привести к дальнейшему деструктивному развитию событий в сторону потери Россией государственности. Наиболее деструктивен в плане правильной ориентации исторического движения России является постмодернизм. Если вновь прибегнуть к аллегории, то теория постмодернизма отрицает всякую возможность ориентации по «огням прошлого», так как отрицает влияние прошлых состояний общества на настоящее его состояние, и его настоящего — на будущее. В этом она полностью расходится с теорией А. Тойнби. Конечно, для безусловного отрицания или принятия той или иной теории нет достаточно веских причин, ведь у каждой теории есть свои сильные и слабые стороны.
Очевидно, что теория Тойнби опирается на эмпирический материал прошлого, а теория постмодернизма — на эмпирический материал современного состояния западного общества. Но Россия вряд ли подпадает под действие теории постмодернизма, потому что фактически еще не достигла основных объективных параметров западной цивилизации. В России не действует основополагающий фактор, обеспечивающий действенность теории постмодернизма в западном обществе — высокоразвитая экономика, позволяющая реализовывать в управлении обществом модели структурно-функционального анализа на основе постоянного роста, удовлетворения и непрерывного создания новых потребностей.
Ценность процесса потребления, находящаяся на самом верхнем уровне, является определяющей в принятии обществом всей системы ценностей и общественного устройства в целом. Но эта ценность должна опираться на мощную экономическую базу постиндустриального общества, которой в России нет. Поэтому методы социальной регуляции, основанные на постмодернизме и структурно-функциональном анализе, в российской действительности работать не будут. Постмодернизм на российской почве является всего лишь идеологией, лозунгом, но таким лозун- гом, принятие которого препятствует отысканию правильного пути в будущей истории России.
Выбор ценностных ориентаций является задачей, требующей больших усилий как со стороны правящей и интеллектуальной элит, так и со стороны большинства. Этот выбор осуществляется под прессингом мнения определенной (очень влиятельной) части российского и западного общества, которые полагают демократические и вообще западные ценности в качестве абсолютных.
России вновь предлагается метод «вестернизации» в построении системы ценностей, который уже доказал свою несостоятельность исторической практикой трех последних столетий.
Лишь ориентация на «огни прошлого» и творческий подход в определении движения общества в настоящем позволят адекватно решить проблему построения системы ценностей, которая разделяется большей частью российского общества: правящей, творческой элитами и большинством.
Список литературы Трансформация системы ценностей советского общества как одна из основных причин его деградации
- Бурцев С. А. Исторические предпосылки роста потребностей человека индустриального общества//Сборник «Духовная культура в условиях социально-экономического кризиса в обществе». М.: МГУС.
- Григоренко А. Эсхатология, милленаризм, адвентизм: история и современность//Философско-религиоведческие очерки. С.Пб.: Европейский дом, 2004.
- Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности//Актуальные вопросы исторического материализма. М.: Политиздат, 1986. 223 с.
- Кожинов В. В. О русском национальном сознании. М.: Алгоритм, 2002.
- Кутузов Б. Церковная «реформа» XVII века. М.: ИПА «ТРИ»Л», 2003.
- Ленин В. И. Задачи союзов молодежи. ПСС. Т. 41.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии//Избранные произведения, т. 1. М.: Издательство политической литературы, 1985.
- Новейший философский словарь. Минск: Книжный дом, 2003.
- Слободской С. Законъ Божий. Спасо-Преображениский женский Валаамский ставропигиальный монастырь. Репринтное издание. 1991.
- Тойнби А. Д. Постижение истории. М.: Прогресс, 1991.
- Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: АГРАФ, 1999.
- Шпенглер О. Закат Европы. М.: Айрис-пресс, 2004.
- Чаадаев П. Сочинения в 2‑х томах. Т. 1. М., 1991.