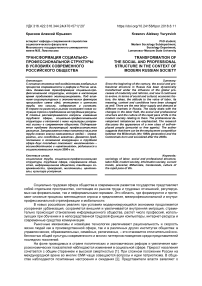Трансформация социально-профессиональной структуры в условиях современного российского общества
Автор: Краснов Алексей Юрьевич
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Социологические науки
Статья в выпуске: 8, 2018 года.
Бесплатный доступ
С началом столетия под воздействием глобальных процессов современности и реформ в России началась динамичная трансформация социально-профессиональной структуры, которая в настоящее время продолжает эволюционировать. Под влиянием социокультурных и экономических факторов происходит смена идей, отношения к ценности труда, его смыслу, содержанию и условиям. В стране на различных рынках возникает новая ситуация спроса и предложения на трудовые ресурсы. В статье рассматриваются вопросы изменения трудовой сферы, социально-профессиональной структуры и связанной с ними «культуры ускоренной жизни» в современном обществе. Подчеркивается проблема диспропорций профессионального развития. Затрагивается тема появления на рынке труда нового класса самозанятых людей - «прекариата», или «свободных агентов». Делается предположение о возможной конкуренции в трудовой сфере двух последних поколений: «миллениалов» - восьмидесятников и «центениалов», родившихся и социализовавшихся после 2000-х гг.
Социология труда, социально-профессиональная структура, трудовая сфера, современное общество, информационное общество, тенденции современности, прекариат, миллениалы, центениалы, культура ускорения
Короткий адрес: https://sciup.org/149132746
IDR: 149132746 | УДК: 316.422:316.344.24(470+571)“20” | DOI: 10.24158/tipor.2018.8.11
Текст научной статьи Трансформация социально-профессиональной структуры в условиях современного российского общества
ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Социально-трудовая сфера общества в современном развитом государстве представляет собой отдельное пространство, состоящее из рынков труда и трудовых отношений, регулируемых как формальными, так и неформальными нормами. Это область, где формируются и протекают сложные процессы меняющегося спроса и предложения, межпрофессиональной и внутри-профессиональной стратификации и мобильности.
В новых российских реалиях при условиях модернизирующейся экономики продолжается ускоренная урбанизация, сохраняется внешняя и увеличивается внутренняя миграция, стремительно происходит становление информационного общества, растет число профессий, использующих при обучении и в непосредственной трудовой функции компьютеры, интернет-ресурсы и современные средства коммуникации.
Рыночные механизмы и новейшие технологии увеличивают рациональность и скорость жизни людей как в производственной сфере, так и в различных других институтах общества: в управленческих, образовательных, семейных, религиозных, – это становится отличительной особенностью общей культуры современности и многих паттернов поведения среди представителей последних поколений.
На фоне проводимых в стране политических и экономических реформ и увеличения макроэкономических показателей наблюдаются изменения в социальной сфере. Прирост населения сочетается с общим старением и высокой смертностью [1]. При сложном положении России на международной арене во многих СМИ чаще освещаются вопросы и идеи патриотизма. В обществе наблюдаются позитивные настроения и ожидания [2]. Представители власти заявляют о необходимости осуществления скорого технологического прорыва во всех отраслях для улучшения условий жизни в стране [3].
В то же время в условиях наблюдаемого экономического роста, продолжающейся массо-визации и вестернизации культуры российское общество развивается как новая социальная реальность, где складываются новые социально-экономические отношения, развивается нестандартная занятость граждан, рождаются новые формы труда, новые механизмы распределения доходов и собственности, изменяется значимость профессий, возникает новая модель социальной и профессиональной стратификации. Становится очевидным, что стремительно ворвавшиеся в жизнь россиян цифровые технологии изменили общую трудовую культуру, привели к переоценке престижности некоторых профессий, ценности и значимости отдельных занятий, породили различные формы занятости, которые в свою очередь оказали воздействие на классовослоевую структуру общества, образуя новые классы, протоклассы и слои. Современный рынок труда России стал характеризоваться новыми видами работников и работодателей, собственников и управляющих, наемных исполнителей и самозанятых.
Классические исследования социальной структуры общества в нашей стране в разное время были проведены Т. Заславской, З. Голенковой, Л. Гордоном, Э. Клоповым, О. Шкаратаном [4], В. Радаевым, В. Ильиным, Т. Малевой [5], Н. Тихоновой, а среди западных специалистов, занимающихся данной темой, наиболее авторитетными являются Г. Маршалл, Дж. Голдторп, Э. Соренсен, Э. Райт, Э. Грусски, Д. Скотт. Опираясь на их исследования, можно продолжать анализировать современную ситуацию в социально-трудовой сфере и прогнозировать ее на будущее.
Н.Е. Тихонова в своем исследовании на основе марксистской и веберианской теории классов, используя в качестве основного ресурсный подход в изучении социальной структуры, приходит к важному выводу, что современное российское общество при всем видимом либерализме приобрело явный немеритократический и неоэтакратический характер, основанный на сращивании властных отношений с отношениями собственности. Автором подчеркивается, что каналы социальной мобильности в России постепенно закрываются. На попадание на те или иные статусные позиции в меньшей степени влияют собственные усилия человека, а решающую роль играют социальное происхождение и ресурсы родительской семьи. Отмечается, что независимо от сектора занятости доступ к качественным рабочим местам получают прежде всего выходцы из наиболее статусных и высокообразованных семей узкой верхушки элиты и наиболее благополучной части общества, которая, по мнению Н.Е. Тихоновой, составляет не более 40 % от общей массы населения страны [6].
Учитывая это при анализе и переосмыслении современного состояния российского общества, приходится серьезно задуматься о его будущей структуре в целом. Сегодня все чаще современные социологи говорят о самозанятых гражданах («отходниках», «фрилансерах», «свободных агентах») и о «прекариате» как о новом классе, развивая его теорию [7].
Наиболее известным западным автором, концептуализирующим понятие и подробно представившим теорию прекариата, является английский социолог Г. Стэндинг [8], описавший его среди прочих как класс, основными характеристиками которого являются «отсутствие гарантий занятости, отсутствие социального пакета, меньшее количество прав, чем у остальных граждан». Главной и отличительной чертой данного класса автор находит нестабильность трудового положения. Такое состояние нестабильности для работников, по данной теории, является не временным явлением, а постоянным [9].
К особенностям этой, так называемой экономически активной части населения так или иначе относят полную свободу и самозанятость человека при отсутствии привязки к должности в формальной организации, кратковременность и частую смену места работы, выполняемую в формате коротких проектов-заказов, неполный рабочий день, неустойчивое социальное положение, незащищенность работника социальными гарантиями со стороны государства, нестабильный доход, неясность жизненной перспективы и возложение всей ответственности и рисков за свою жизнь и трудовую карьеру на самого «свободного агента», что является перманентным состоянием человека. По мнению авторитетного российского социолога Ж.Т. Тощенко, к данному классу в России можно отнести до 40 % всего населения [10]. Последние несколько лет ускоренная информатизация, компьютеризация и автоматизация делают устаревшими многие профессии, связанные не только с рутинным ручным трудом в промышленности, но и рутинным умственным трудом. Преобладающим становится интеллектуальный труд в информационно-коммуникационной сфере, активно развивается сервилизация экономики, в особенности растет сектор оказания деловых услуг. Вместе с этим растет бюрократия – различные администраторы и контролеры на государственной службе.
Неопределенность и рациональность становятся главными современными особенностями в трудовой сфере. Новые трудовые ценности формируют новую культуру ускоренной жизни. Современное общество рационализируется во всех сферах, и жизнь людей естественным образом ускоряется. Начинает действовать принцип «все делать быстрее – значит жить лучше».
Современный российский социолог А.Б. Гофман в одной из своих последних работ справедливо замечает: «Мы живем в эпоху громадных скоростей и быстрых повсеместных изменений. Об этом мы слышим и читаем, наблюдаем, чувствуем, наконец, в этом мы сами участвуем. Высокая скорость и ее культ – это и реальность, и своего рода нравственный императив нашего времени. “Кто не успел, тот опоздал” – такого рода максимы внушаются на каждом шагу. Надо двигаться, причем быстро. Если ты слегка замешкался и не набрал вовремя нужную высокую скорость, причем в заданном тебе, но не тобою, направлении, тем хуже для тебя… Быстро надо делать все: есть, учиться, читать, мыслить, чувствовать, исполнять художественные произведения и даже религиозные ритуалы. Быстро, стремительно движется в пространстве и во времени все: человеческие тела, животные, растения, идеи, чувства, вещи, тексты, знания, верования, технологии, транспортные средства, финансы, образы и т. д.» [11]. Это в полной мере можно соотнести и с социально-трудовой сферой. В современном обществе нужно уметь быстро работать, часто перестраиваться на новый тип занятости, менять работу, переучиваться, повышать квалификацию. Это новая реальность в социологии труда.
В свою очередь можно наблюдать, как рыночная экономика, информатизация, миграция, урбанизация, доступность высшего образования, культ потребления и появление большого количества профессий, не требующих тяжелого физического труда, а относящихся к обработке информации, производству символов и расширению сферы услуг (юриспруденция, финансовая аналитика, маркетинг, журналистика, перевод, реклама, дизайн, риелторство, страхование, консалтинг, публичная коммуникация и множество других), привели не только к изменению престижа рутинного и производительного труда и к вытеснению его интеллектуальным и творческим , но и к появлению такого явления, как «феминизация труда». Рыночные отношения, мода на новые профессии, связанные с современными технологиями, возможности иметь практически равный с мужчинами доход от трудовой деятельности вывели на «новый» рынок труда большое количество женщин, способствуя их социальной конкуренции с мужчинами в трудовой сфере.
Современная молодая женщина получила больше возможностей для личностного развития, обучения и зарабатывания денег, обрела финансовую независимость, что стимулирует ее трудовое поведение, изменяет жизненные ценности и «уводит из семьи на работу», главным образом оттягивая время принятия решения для вступления в зарегистрированный брак и обретения главной роли женщины – роли матери. Это стало одной из причин трансформации института семьи.
Изменение института образования приводит к тому, что высшее образование превращается в массовую услугу и становится узкоспециализированным, требующим постоянного повышения квалификации в течение всей жизни, иначе человек просто теряет конкурентоспособность в современных рыночных условиях при тотальной цифровизации всех сфер.
Совсем недавно Россия перешла на трехступенчатую модель высшего образования (бакалавриат – магистратура – аспирантура), предоставив возможность «миллениалам» [12] и открыв новому поколению «центениалов», вступающему в ближайшие годы во взрослую трудовую жизнь, путь для более гибкой системы образовательных, карьерных и жизненных стратегий.
По заключению современного российского социолога В.В. Радаева, исследовавшего в 2017–2018 гг. современное поколение молодежи – так называемых «миллениалов», – на фоне предшествующих четырех поколений («мобилизационного», родившегося до 1938 г., оттепели 1939–1946 гг., «застойного» 1947–1967 гг., «реформенного» 1968–1981 гг.) и самого молодого поколения – «центениалов» складывается интересная ситуация в трудовой сфере. «Миллениалы», или восьмидесятники, – трудовое поколение, которое в целом не торопится взрослеть, откладывая время ухода из родительской семьи, вступления в брак и рождение детей. Это поколение дольше учится и позднее вступает в трудовую жизнь, активно использует в своей жизни цифровые технологии, компьютеры, смартфоны, интернет и социальные сети. «Они меньше курят и употребляют алкоголь, проявляют повышенный интерес к здоровому образу жизни, больше занимаются физкультурой, активнее и разнообразнее проводят досуг, менее религиозны, амбициознее, нетерпеливее и требовательны, часто чрезмерно оптимистично оценивают свою жизнь, хотят во всем быстрых результатов» [13].
В условиях названных выше факторов можно прогнозировать социальную конкуренцию сразу нескольких поколений. Сегодня в трудовой сфере складывается уникальная ситуация, которой возможно никогда больше уже не будет в истории человечества, – одновременно на рынке труда конкурируют сразу три поколения: реформенное – последнее поколение, которое начинало свою трудовую жизнь, когда еще не существовало интернета, промежуточное поколение «миллениалов», частично заставших трудовую сферу без интернет-технологий, и самое молодое поколение – «центениалов», тех, кто только выходит на рынок труда в уже полностью цифровую эпоху постиндустриального общества.
Тем не менее при всех инновациях современности на фоне кажущегося «цифрового успеха» в России сохраняется серьезная диспропорция в развитии городских и сельских поселений, наблюдаются анклавная по своей сути модернизация регионов, крупных мегаполисов и отраслей экономики, рост бюрократии в госсекторе, изменения в институте семьи, старение населения, падение престижа производящих профессий.
Сегодня для решения проблемной ситуации России потребовались новые налоговые преобразования, а также стабилизация пенсионной системы, гарантирующие социальное благополучие работающему поколению и тем, кто только выходит на рынок труда. Правительство страны уже инициировало пенсионную и налоговую реформу, что в скором времени также отразится на социально-трудовой сфере.
Какой будет в дальнейшем социально-профессиональная структура в России, покажет время, но отмеченные тенденции современности уже сегодня оказывают серьезное влияние на трансформации в трудовой сфере и отношение к труду сразу нескольких поколений россиян, сталкивающихся на рынках труда, что открывает современной российской социологии новые горизонты для исследований в этой области.
Ссылки и примечания:
Список литературы Трансформация социально-профессиональной структуры в условиях современного российского общества
- Демографический ежегодник России. 2017: статистический сборник. М., 2017.
- Социальные настроения россиян: итоги 2017 года [Электронный ресурс] // Всероссийский центр изучения общественного мнения. 2018. 9 янв. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116623 (дата обращения: 02.08.2018).
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.03.2018.
- Шкаратан О.И., Ястребов Г.А. Социально-профессиональная структура и ее воспроизводство в современной России. М., 2017. 92 с.
- Малева Т.М., Бурдяк А.Я. Средний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России // Журнал новой экономической ассоциации. 2016. № 4. С. 62-85.
- Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теория и реальность. М., 2014. 408 с.
- Голенкова З.Т. Прекариат как новое явление в современной структуре // Наемный работник в современной России / отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 2015. 368 с.
- Стэндинг Г. Прекариант: новый опасный класс. М., 2014. 328 с.
- Standing G. The Precariat, Class and Progressive Politics: A Response // Global Labour Journal. 2016. Vol. 7, iss. 2. P. 189-200.
- DOI: 10.15173/glj.v7i2.2940
- Тощенко Ж.Т. Прекариат - новый социальный класс // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 3-13.
- Гофман А.Б. Слишком быстро?! Культура замедления в современном мире // Социологические исследования. 2017. № 10. С. 141-150.
- DOI: 10.7868/s0132162517100166
- Радаев В.В. Миллениалы на фоне предшествующих поколений: эмпирический анализ // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 15-33.
- DOI: 10.7868/s0132162518030029