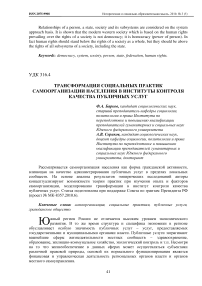Трансформация социальных практик самоорганизации населения в институты контроля качества публичных услуг
Автор: Барков Ф.А., Сериков А.В.
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Оригинальные статьи
Статья в выпуске: 3 (5), 2010 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается самоорганизация населения как форма гражданской активности, влияющая на качество администрирования публичных услуг в пределах локальных сообществ. На основе анализа результатов эмпирических исследований авторы концептуализируют возможности теории практик при изучении опыта и факторов самоорганизации, моделированию трансформации в институт контроля качества публичных услуг. Статья подготовлена при поддержке Совета по грантам Президента РФ (проект № МК-8357.2010.6).
Самоорганизация, социальные практики, публичные услуги, гражданское общество
Короткий адрес: https://sciup.org/14949126
IDR: 14949126 | УДК: 316.4
Текст научной статьи Трансформация социальных практик самоорганизации населения в институты контроля качества публичных услуг
Ю жный регион России не отличается высоким уровнем экономического развития. В то же время структура и специфика экономики в регионе обуславливает особую значимость публичных услуг – услуг, предоставляемых государственными и муниципальными органами власти. Публичные услуги затрагивают важнейшие сферы жизнедеятельности местных сообществ – здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, экологический контроль и т.п. Несмотря на то что жизнеобеспечение в данных сферах может осуществляться субъектами различной правовой природы, основой их нормального функционирования является финансовая и управленческая деятельность региональных органов власти и органов местного самоуправления.
В настоящее время эффективность функционирования сектора публичных услуг остается довольно низкой, и это связано с несколькими факторами:
-
а) неудовлетворительным качеством государственного и муниципального администрирования;
-
б) слабой конкурентной средой и отсутствием общественного контроля за так называемыми местными естественными монополиями [1, с. 42–44].
На местном уровне основным институтом, который позволяет обществу влиять на деятельность органов власти, стимулировать повышение качества их работы является институт выборов. Однако влияние этого института, как показывает практика и социологические исследования, в современных политических условиях остается крайне низким [2, с. 140-164].
Наряду с институтом выборов функции общественного контроля за деятельностью органов местной и региональной власти должны выполнять институты гражданского общества. Однако органы власти, как правило, заинтересованы в ограничении влияния организаций и объединений, реально борющихся за соблюдение экономических и социальных прав граждан и осуществляющих легитимный общественный контроль качества предоставления публичных услуг. Путем политических и административных технологий влияние этих организаций сведено к минимуму. Как следствие, общество не воспринимает деятельность общественных организаций как механизм обратной связи с органами власти и самоуправления, весьма низок и общий уровень доверия к некоммерческим организациям: по данным опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», около 1% населения Ростовской области считают, что общественные и некоммерческие организации влияют на решение вопросов местного значения [3].
В этом контексте актуализируется роль самоорганизации населения для решения местных проблем, возникших в результате неудовлетворительной деятельности органов власти и самоуправления по предоставлению публичных услуг. Практики самоорганизации рассматриваются нами вне политического контекста – как формы, модели, социальный опыт консолидации инициативных групп населения с целью выражения коллективных требований-сообщений, затрагивающих проблемные условия жизнедеятельности всего местного сообщества или значительной его части.
Как показывают исследования, в некоторых случаях практики самоорганизации населения по поводу защиты своих социально-экономических прав, жизненно - важных интересов являются успешными, т.е. либо приводят к решению тех или иных важных проблем, либо даже создают институционализированные образцы решения проблем. В других случаях самоорганизация граждан может оказаться неуспешной, не привести к разрешению проблем. Исследование успешных и неуспешных практик самоорганизации позволяет получить ряд важных выводов относительно типичных моделей взаимодействия местной власти и местного населения, а следовательно, и о приоритетах в стимулировании и развитии гражданской активности.
Спектр теоретических воззрений на процессы самоорганизации граждан довольно широк – от подходов, акцентирующих внимание на психологических аспектах формирования чувства «сообщества» (Д. Макмиллан, Д. Чейвис) [4], до чисто правового подхода, с характерной для него специфически юридической философией проблем коллективных взаимодействий (А. Балабанов [5], А.С. Бурмистров [6, с. 36–42], О.Л. Савранская [7]).
В дискурсе западной социологии исследования практик самоорганизации граждан на локальном уровне связываются с такими понятиями, как community life, community development и social development. В рамках этой концепции «сообщественности» навыки самоорганизации считаются индикатором и предпосылкой укрепления социальных связей, формирования собственно «сообществ» (Дж. Р. Гасфилд) [8]. Исследованию сообществ, возникающих на основе чувства общей идентичности, общего интереса и целей, посвящены работы Э. Берджеса, Р. Парка [8; 9, с. 136–150]. С темой самоорганизации связано и такое важное понятие, как «участие» (public participation) на локальном уровне, или понятие «участие жителей» (С. Арнстейн, Н. Нелиссен).
Среди исследований, проводимых отечественными учеными, следует назвать проект, осуществлявшийся под руководством В.Л. Глазычева, О.Н. Яницкого и Т. Деелстры [10]. Роль общественных движений и организаций в становлении реального общественного самоуправления исследуется в работах Д.А. Левчика [11], И.Е. Кокарева [12], И.В. Мерсияновой [13, с. 35–45]. А.Ю. Сунгуров в своих исследованиях показывает особую роль общественного участия в решении локальных проблем (от защиты окружающей среды до решения проблем занятости) [14]. Ю. Филиппов и В. Гассий изучали местное сообщество как среду, в которой формируются солидарность, взаимное доверие, обязательства и общность интересов [15, с. 64-72]. В работах Т. Говоренковой, Д. Савина анализируется опыт кооперации жителей близлежащих домов с целью улучшения условий проживания [16]. К. Зендриков освещает социальные технологии интеграции местного сообщества вокруг решения общих проблем [17].
В настоящее время в российской социологической науке сложилось достаточно продуктивное в эвристическом плане направление – теория социальных практик (В. Волков, Е. Герасимова, А. Дмитриев, О. Калачева, О. Карпенко, А. Курылев, О. Хархордин и др.) [18, с. 7–10]. Данный подход предоставляет теоретикометодологический аппарат как для изучения неявных установлений и норм коллективной жизни, так и для формирования умений и навыков решения практических задач в ситуации неопределенности. В рамках данного подхода можно определить фоновый статус практик самоорганизации, а также рассмотреть возможности и препятствия для их трансформации в институты, идентичности и ценности, предъявляющие повышенные требования к деятельности органов власти по предоставлению публичных услуг и предполагающие более активное участие населения в решении проблем своего населенного пункта.
Еще одним проблемным аспектом, вытекающим из теории практик, является исследование пассивности населения в вопросах урегулирования проблемных условий жизнедеятельности как рутинизированных способов поведения. Так, для социальной инфраструктуры многих поселений, если они не относятся к преуспевающим экономическим центрам, которые не испытывают недостатка в потоках капитала, характерны черты упадка [19]. Следует заметить, что на определенном этапе промышленного и городского строительства в советский период, «массы» демонстрировали заметную способность к коллективному взаимодействию, бескорыстному участию в благоустройстве собственных поселений.
Если исключить элементы принуждения, можно сказать, что наиболее удачный опыт самоорганизации связан с развитыми коллективными идентичностями (жители рабочего поселка – работники градообразующего промышленного предприятия, члены научного коллективы – члены строительного кооператива и т.д.). Таким образом, одна из важных исследовательских задач – выяснить специфику влияния коллективной идентичности на готовность к самоорганизации на современном этапе. Дополним сказанное некоторыми методологическими пояснениями.
Сегодня практическая парадигма существует как удобная территория для междисциплинарных исследований. Понятие практик все чаще фигурирует в антропологии, философии, истории, социологии, политической теории, теории языка, литературной теории. Но для каждой науки характерен свой способ концептуализации. В целом же в теории практик можно выделить два основных подхода: первый восходит к позднему Витгенштейну и акцентирует внимание на фоновом характере практик; второй связан с творчеством раннего Хайдеггера и указывает на раскрывающую способность практик [18, с. 17–18]. Рассмотрим каждую из этих практик подробнее.
-
А. Фоновый характер практик. Фоновая практика – это деятельностный контекст, в котором интерпретируется высказывание или поведение. Дж. Серль считает, что фоновые
практики – это совокупность принятых в культуре (традиционных) способов деятельности, навыков обращения с различными предметами и т.д. Как уточняет Дж. Серль, для «большого числа случаев буквальный смысл предложения или выражения задает условия [собственной] истинности только при наличии набора фоновых допущений и практик (background assumptions and practices)» [20, р. 227].
Согласно теории практик, аналогичная схема рассуждений справедлива и для других сфер жизни и уровней анализа: практики экономической деятельности, политического участия, решения споров и т.д. Все они придают смысл важным ценностным понятиям, таким как демократия, свобода, справедливость и т.д. Их действительный смысл будет содержаться в конкретных способах деятельности, на фоне которых используются эти понятия. Поэтому в различных культурах и традициях одни и те же понятия на самом деле будут означать нечто разное.
Так, весьма важный пример эмпирического исследования местных практик приводится в работах Р. Патнэма. Ученый сравнивает взаимодействие введенных в 1970 г. институтов местного самоуправления в северных и южных районах Италии с местными традициями и менталитетом: изначально одинаковые (на бумаге) институты взаимодействуют с местными практиками и формами коллективной жизни и тем самым меняют свое содержание в зависимости от контекста.
Б. Раскрывающий характер практик. Практики конституируют и воспроизводят идентичности или раскрывают основные способы социального существования, возможные в данной культуре в данный момент истории. Практики – это различные упорядоченные совокупности навыков целесообразной деятельности.
Общество – это множество раскрывающих пространств, характеризующихся инструментальным снаряжением, совокупностью навыков, практическими проектами и идентичностями. В каждом таком мире раскрывается или практически интерпретируется как «быть врачом», «быть политиком», «быть семейным человеком», «быть членом местного сообщества» и т.д. На фоне этих общих для каждой культуры практических навыков развиваются идеологии и ценности профессиональных и иных сообществ. В основе различных миров лежат совокупности практических навыков, которые осваиваются путем особых игр или упражнений и тем самым раскрывают осмысленные идентичности.
В контексте исследования процессов трансформации социальных практик в институты контроля качества публичных услуг важно понять диалектику различных форм социальных практик, т.е. их влияние и взаимосвязь с социальными изменениями. Поэтому необходимо отметить, что в целом социальные изменения – это прежде всего изменения фоновых практик, сопровождающиеся появлением соответствующих идентичностей, формальных институтов и идеологий.
Выделяются три способа (стадии-формы) изменения практик:
-
а) артикуляция – когда определенный стиль или способ действия попадает в фокус внимания, поименовывается, становясь более очерченным, за счет чего возможно его нормативное выражение и распространение в обществе;
-
б) реконфигурация – когда практика (или ее аспект) переходит из маргинального положения в центральное;
-
в) заимствование – перенос сложившейся практики в новый контекст, сопровождающийся ее приспособлением для решения новых задач.
Таким образом, исследование возможностей трансформации социальных практик самоорганизации граждан в институты контроля качества публичных услуг должно включать интерпретацию самоорганизации в качестве особого типа поведения, связанного с индивидуальным (идентичность) и коллективным (совокупность традиционных способов деятельности) факторами. Самоорганизация как коллективное поведение – это только один из трендов социальных изменений, ведущих к конструированию институтов контроля качества публичных услуг. Один из других трендов – это развитие так называемого третьего сектора, сферы НКО.
В качестве комплекса практик деятельность НКО включает в себя:
-
а) набор определенных идентичностей («правозащитники», «экологи», «НКОчники» и т.д.);
-
б) совокупность формальных институтов (собственно некоммерческие организации, общественные движения и объединения);
-
в) ряд ценностно-нормативных компонентов (идеология свободы, ответственности, демократии, гражданственности и др.).
Однако, как уже было сказано, воздействие этого комплекса практик на повышение качества жизни местных сообществ остается незначительным. Только при условии реализации другого тренда социальных изменений – демаргинализации практик самоорганизации возможны серьезные институциональные эффекты. Институционализация практик самоорганизации, на наш взгляд, предполагает как минимум две стадии: артикуляцию (ценностей: активизма, сотрудничества, взаимопонимания, взаимоподдержки и т.д.) и демаргинализацию (трансформация самоорганизации из ресурса выживания в ресурс развития). Иными словами, институционализация предполагает переход успешного опыта самоорганизации из маргинального типа социальных практик в социально признанные.
Осенью 2009 г. группа исследователей под руководством известного социолога-качественника И.Е. Штейнберга провела социологическое исследование, одной из центральных задач которого было изучение реальных практик гражданской активности – солидарности и самоорганизации [21]. К важным результатам данного исследования следует отнести следующие выводы:
-
1) самоорганизация происходит, как правило, в «дефицитных точках» повседневности, т.е. возникает как ресурс выживания;
-
2) понятие «гражданское общество», с которым обычно связывается гражданская активность и солидарность, не является элементом языка повседневности, а представляет собой конструкт, институционализированный в сфере политики, СМИ, НКО и т.д.;
-
3) ценности самоорганизации часто противоречат ценностям законности: гражданская активность мотивирована не отстаиванием законных прав, а отстаиванием справедливости;
-
4) важным фактором самоорганизации является осознание себя собственником с социальной ответственностью (личной и коллективной): с пониманием ответственности приходит и понимание неотъемлемых прав, однако в реальности имеет место недостаток поведенческих практик, связанных с осознанием себя собственником-гражданином;
-
5) персональные социальные сети являются конкурентами-антагонистами самоорганизации в пределах сообществ: самоорганизация возникает тогда, когда персональная сеть, какие бы мощные узлы она в себя ни включала и какими бы ресурсами и возможностями сетевого обмена ни обладали эти узлы, не может решить некоторых проблем;
-
6) барьерами для самоорганизации служат: недостаток знаний, информации, отсутствие опыта; депаблисификация социальных проблем и конфликтов; ряд социальнопсихологических характеристик населения (прежде всего бесконечное терпение); противоречия в законодательстве и политике властей;
-
7) снижение социального КПД практик самоорганизации из-за боязни публичных дискуссий как со стороны власти, так и со стороны общественников; дилеммы социальных сценариев разрешения проблем – либо стремление к радикальным формам социальных акций, либо стойкая убежденность в том, что от простых людей ничего не зависит; множество примеров репрессий по отношению к активистам со стороны бизнеса и власти.
Как видно из сказанного, по большинству из обозначенных эмпирических характеристик практик самоорганизации актуальна задача трансформации по модели артикуляция + демаргинализация. В настоящее время большинство людей чувствуют себя несвободными зависимыми от государства, и не готовы к инициативной самостоятельной деятельности [22, с. 20]. Расширение теоретических и эмпирических знаний о формах, стратегиях, факторах успешности социальных практик самоорганизации остается актуальной задачей социально-гуманитарной науки. С практической точки зрения эмпирически верифицированная концепция трансформации социальных практик самоорганизации в институт контроля качества публичных услуг может быть использована для совершенствования государственной политики и законодательства в области реформирования жилищно-коммунального сектора, экистической экологии, здравоохранения, образования, муниципального управления, а также для совершенствования условий государственной и частной поддержки позитивной гражданской активности, способствующей повышению уровня жизни, экологической и правовой культуры населения.
Список литературы Трансформация социальных практик самоорганизации населения в институты контроля качества публичных услуг
- Мальцев А. Качество регламентации публичных услуг в ходе административной реформы//Власть. 2009. № 12.
- Магомедов М.Г. Социальное доверие в российском обществе. М.: Социально-гуманитарные знания, 2008. 3.
- Гражданское общество современной России: Социологические зарисовки с натуры/отв. ред. Е.С.Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2008. 4. См.:
- McMillan D. W., Chavis D. M. Sense of community: a definition and theory//Journal of Community Psychology. 1986. Vol. 14.
- Балабанов А. Местные сообщества в местном самоуправлении как образовательная задача//Местные сообщества и местное самоуправление. М., 2000.
- Бурмистров А.С. Местное сообщество как субъект самоуправления//Правоведение. 2000. № 5.
- Савранская О.Л. Территориальное общественное самоуправление//Местное самоуправление: проблемы и пути их решения. СПб., 2000.
- Gusfield J. R. The community. A critical response. New York: Harper & Row, 1976.
- Баньковская С.П. Роберт Парк; Эрнст Бёрджесс. Современная американская социология. М: Изд-во МГУ, 1994.
- Парк Р.Э. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок//Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология: РЖ/РАН. ИНИОН. 2000. №3. 10.
- Cities of Europe: public participation in revitalizing of urban environment/ed. by T. Deelstra, O. Yanitsky. M.: Международные отношения, 1991.
- Левчик Д.А. Становление общественного самоуправления в России: территориальные и производственные протестные движения. 1988-1993: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 2005.
- Кокарев И.Е. Соседские сообщества -путь к будущему России. М.: Мир, 2005.
- Мерсиянова И.В. Социальная база российского гражданского общества//Общественные науки и современность. 2009. № 4.
- Сунгуров А. Общественное участие как условие формирования гражданского общества. URL: http://www.prof.msu.ru/publ/conf/conf05.htm>. Дата обращения 11.09.2010.
- Филиппов Ю., Гассий В. Развитие местных сообществ//Муниципальная власть. 2004. № 11-12.
- Говоренкова Т., Савин Д. Жилищно-арендная кооперация. Опыт новой экономической политики и возможность его применения в современной России//Жилищный альманах. 1999. № 4.
- Зендриков К. Местное сообщество как предмет социотехнической работы//Решение социальных проблем в местном сообществе. М., 2000.
- Волков В.В., Хархордин О.В. Теория практик. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.
- Ермишина А.В. Формирование муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса города: участие общественности. URL: http://www.socpolitika.ru/rus/conferences/3985/3992/3994/document4356.shtml>. Дата обращения 10.09.2010.
- Гудков Л.Д. Общество -это другие//Гражданское общество в России: настоящее и будущее. М.: ТЕИС, 2007.