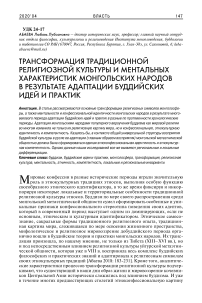Трансформация традиционной религиозной культуры и ментальных характеристик монгольских народов в результате адаптации буддийских идей и практик
Автор: Абаева Любовь Лубсановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются основные символы трансформации религиозных символов монголосферы, а также ментальности и конфессиональной идентичности монгольских народов в результате многовекового периода адаптации буддийских идей и практик в разные по протяженности хронологические периоды. Адаптация монгольскими народами популярного вероучения буддизма как мировой религии во многом изменила не только их религиозную картину мира, но и конфессиональную, этнокультурную идентичность и компетентность. Казалось бы, в контексте общей универсальной структуры восприятия буддийской культуры в русле ее адаптации (главным образом восприятия) монгольской метаэтнической общностью должна была сформироваться единая этноконфессиональная идентичность и этнокультурная компетентность. Однако данные наших исследований все же выявляют региональные и локальные дифференциации.
Буддизм, буддийские идеи и практики, монголосфера, трансформация, религиозная культура, ментальность, этничность, компетентность, локальные и региональные инварианты
Короткий адрес: https://sciup.org/170171174
IDR: 170171174 | УДК: 24-17 | DOI: 10.31171/vlast.v28i4.7450
Текст научной статьи Трансформация традиционной религиозной культуры и ментальных характеристик монгольских народов в результате адаптации буддийских идей и практик
Мировые конфессии в разные исторические периоды играли значительную роль в этнокультурных традициях этносов, выполняя особую функцию своеобразного этнического идентификатора, в то же время фиксируя и инкорпорируя некоторые локальные и территориальные особенности традиционной религиозной культуры этносов. Буддизм по мере своего распространения среди монгольской метаэтнической общности сумел сформировать особенные и уникальные признаки конфессионального стереотипа поведения своих адептов, который в современный период выступает одним из доминирующих, если не основным, этническим и культурным идентификатором. Этническое самосознание, сакральные формы традиционного религиозного опыта, традиционная картина мира, сложившаяся по мере освоения жизненного пространства, мифологическое и религиозное мировоззрение добуддийского периода органично вошли в буддийские теории и практики монгольских народов. Их трансляция произошла, по нашему мнению, не только из Тибета (XIII–XVI вв.), но и под непосредственным влиянием религиозной культуры уйгурской метаэтни-ческой общности, которая уже в VIII в. восприняла весь комплекс буддийских философских и практических знаний и адаптировала к религиозным символам своих этнокультурных традиций [Абаева 2018: 183-231]. Кроме того, аналитические характеристики процессов трансформации религиозной культуры подчеркивают, что существующий в наши дни образ жизни и мировоззрение кочевников Центральной Азии исторически сложились под влиянием буддизма. И уже в течение многих предшествующих столетий этноконфессиональную картину монголосферы мы не может представить вне буддийской религиозной традиции [Абаева 2011].
Общие фундаментальные понятия, категории и символы классической формы буддизма, распространившиеся среди монгольских народов в разные хронологические периоды, нашли отражение в существующих на сегодняшний день религиозных реалиях монгольской этносферы. Как известно, будучи основными формами и главными организующими структурами в религиозной культуре, категории должны воспроизводить конкретные свойства и отношения универсального бытия и универсального познания в наиболее концентрированной форме. Являясь особой структурной частью буддийской религиозной культуры, буддийские символы представляют собой давно сложившиеся константы и служат трансляторами буддийских традиций. При этом каждая монгольская религиозная и локальная традиция (территория или локус) в синхронном и диахронном срезах адаптировала их в соответствии со своими более ранними религиозными символами, в целом не нарушая ни синтактику, ни семантику, ни прагматику семиотической системы буддизма.
Традиционное мировоззрение монгольской этносферы – это сложившаяся в их кочевом пространстве система взглядов как специфическая и уникальная в своем роде реакция на окружающую среду, их место в нем, где также фиксируется их отношение к миру вокруг, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции, убеждения, идеалы и ценностные ориентиры. Традиционное мировоззрение, прошедшее апробацию в процессе собственно этнических, а также в результате этносоциальных процессов в пространстве и времени ареала монгольских народов, не только включало в свою систему профанное (бытийное, повседневное) содержание, но и носило прежде всего сакральные (религиозные) культурные тексты с контурами философского осмысления мира вокруг. В структуру традиционного мировоззрения монгольских народов входили и такие категории, как общее и абстрактное понимание мира в ареале своего пространства и времени (хронотоп), а также собственные мироощущение, мировосприятие, миросозерцание и миропонимание.
Современная психологическая и эмпатическая нормативность монгольских сообществ и их вариативность представляет собой особый срез реального общественно-исторического процесса формирования кросс-культурного разнообразия жизненного опыта в разных социальных группах, устойчивой системы ценностей, норм, идеалов гармонического, достойного человеческого бытия.
Известно, что до кириллической современной письменности, на которой базируются современные монгольский, бурятский и калмыцкий языки, вся монгольская метаэтническая общность пользовалась вертикальным письмом. Переход на горизонтальное письмо вызвал у них своего рода культурный шок и изменил ментальные параметры монгольских народов. Кроме того, буддийские тексты исторически представлены в основном на вертикальной письменности монгольских этносов, основанной на уйгурском вертикальном письме. Однако традиционные религиозные символы в культуре монгольских народов в процессе своей эволюции совсем не исчезают из контекста этнорелигиозной картины конкретных локусов, фактически оставаясь в приоритетах их этнокультурных обычаев, обрядов и ритуалов. При этом адаптация религиозных теорий и практик такой мировой религии, как буддизм, кроме ярко выраженного интеграционного характера, носила в какой-то степени и глобализационный характер. Со временем существующие на момент адаптации религиозные традиции менялись в локусе их распространения, инкорпорируя и адаптируя многие элементы традиционных локальных религиозных культур, трансформируя также и ментальность. В процессе адаптации буддийских текстов возни- кают новые формы ментальности, трансформируются представления о мире, меняется мировоззрение и образ жизни, хотя включенность буддийских идей и ценностей в современную жизнь монгольского социума, а также конкретного индивида вряд ли существенно повлияла на кочевой уклад и повседневную обрядность. Пространство повседневного бытия в монголосфере (их локусы) всегда было сакрально детерминировано и регламентировано.
Культурно-историческое наследие буддизма среди монгольской метаэтни-ческой общности благодаря его специфике трактовки человека и его места в мире в настоящее время пользуется устойчивой репутацией самой универсальной и гуманной религии в истории человечества, т.к. провозглашает принципы моральной ответственности человека за свои деяния и сострадательное отношение к любому живому существу. Распространение буддийской доктрины и практическое ее применение не замыкались в узких рамках буддийского духовенства и образованных мирских последователей [Бабу лама 2011: 153]. Принципы буддизма, проникнув в общественное сознание, в значительной степени определили деятельность всех слоев монгольского сообщества. Кроме того, в дореволюционный исторический период буддийская идеология пронизывала все стороны политической и культурной жизни общества, бытовой и повседневный уклад народов, являясь цементирующим элементом, универсальным языком, придающим культуре этого региона некую целостность. При этом распространение буддизма характеризуется монастырскими и народными уровнями.
Основные категории буддийской теории, изложенные в учении о четырех благородных истинах – восьмеричном (срединном) пути спасения, включающие в себя правильные взгляды, правильные размышления и способность следовать им, правильную речь, правильное поведение, правильный способ поддержания жизни, правильные усилия (т.е. их приложение), правильную мысль (ее направленность), правильное сосредоточение, в какой-то степени соответствовали нормативным законам степных уложений кочевой культуры монгольских народов. Другое дело, что культурный и религиозный смысл восьмеричного пути спасения как текст религиозной культуры на ранних этапах распространения буддизма среди монгольских народов вряд ли адекватно воспринимался новыми адептами, т.к. объектно-субъектные составляющие этой теории были инновационными для традиционного мировосприятия и мировоззрения кочевника.
Амбивалентная культурная и конфессиональная идентичность наблюдается практически у всех представителей элиты монгольской метаэтнической общности не только в результате кросс-культурных взаимовлияний, но и в силу высокой степени их адаптационных этнокультурных возможностей, выработанных еще в период Монгольской империи. Как известно, амбивалентная идентичность в векторе развития этнокультурных характеристик является следствием продолжительных контактов с инокультурной средой. Элита монгольских этносов Китая одинаково хорошо адаптировала современные китайские этнокультурные реалии, в т.ч. и язык. Бикультуральными, а следовательно и билингвальными, вовлеченными в канву российских этнических, социальных и политических реалий являются также элиты калмыков, бурят и тувинцев в России. Примечательно здесь также и то, что, в отличие от монгольских этносов Китая, где на китайском языке фактически свободно говорит только элита, представители бурятского, калмыцкого и тувинского этносов свободно говорят на русском языке, в какой-то степени демонстрируя этнокультурную индифферентность к родному языку. Их культурная индифферентность свидетельствует о практически завершившемся процессе аккультурации этих этносов в поликультурном пространстве России. Длительный процесс взаимодействия с русской культурой и представителями семейских и казачьих этнокультурных реалий, пришедших в Восточную и Южную Сибирь вместе с их носителями, несомненно, обогатили этнокультурную палитру компетентности бурятского этноса, хотя в какой-то мере спровоцировали трансформацию их конфессиональной компетентности и этнокультурной идентичности. Возможно, вследствие этого буддийские сообщества современной Бурятии представляют собой «неоднородные социальные образования, в которых происходят весьма динамичные процессы структурирования и формирования новых групп» [Бадмацыренов 2019: 15].
В течение последних 20 лет в современном обществе Монголии фиксируются неоднозначные процессы трансформации буддийских идей и практик. Общая тенденция этого феномена заключается в том, что здесь преобладает вектор направленности религиозных феноменов от индифферентности – к идентификации, от атеистического неверия – к религиозной вере. Как утверждает монгольский профессор С. Цыдендамба, «прежде всего возникает вопрос, как будет развиваться этот процесс; увеличится или уменьшится степень религиозности; в чем разница между религией прошлого и настоящего века; почему люди и общество не смогли остаться без религии; почему люди ищут и даже создают новые религиозные идеи и организации; почему это направление стало всеобщим увлечением; является ли религиозность естественной природой человека, человеческой души и сознания; является ли вышеуказанный процесс возрождением родового чувства и идентичности; является ли религия и ее каноны созидательной силой или управленческой силой человеческого духа или выражением силы тяги к себе или это воздействие реальных причин и факторов природы на развитие общества» [Цыдендамба 2019: 67].
Человек как субъект конкретного общества в его глобальном, а также этно-и социокультурном измерении представлен в собственных этнокультурных символах уникальным феноменом социальной истории человечества со всеми вытекающими характеристиками ценностей, обусловленных прежде всего конкретными историческими религиозными традициями. Религиозные символы в культурах народов на протяжении многих столетий в своем большинстве преодолели процесс секуляризации общества. Уже в XVI–XVII вв. христианские каноны заменяются гражданским правом, религиозные христианские границы переходят в сферу нравственной регуляции человека и общества и в основном касаются проблем внутренней жизни индивида. В условиях интеграционных и трансформационных процессов многих регионов Центральной Азии, Внутренней Азии в целом и в Российской Федерации в частности проблема идентификации личности и ее специфической ментальности как внутри конкретного этнического сообщества, так и в сфере глобальных процессов вернулась в политику, экономику, право, образование, причем в новых, зачастую крайне интересных и иногда даже парадоксальных формах. Вследствие этого актуальным является анализ проблемы – в какой зависимости в процессе различных трансформаций, интеграций и сепаративных процессов необходимо рассматривать человеческую природу и динамику культуры в контексте доминирующих в религиозной культуре и категориальных ценностей .
Работа выполнена в рамках государственного задания ИМБТ СО РАН по проекту XII.191.1.3. «Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и стран Центральной и Восточной Азии», номер госрегистрации № АААА-А17-117021310263-7.
Список литературы Трансформация традиционной религиозной культуры и ментальных характеристик монгольских народов в результате адаптации буддийских идей и практик
- Абаева Л.Л. 2011. Идентичность в локусе бытия монгольских народов. - Феномен идентичности в современном гуманитарном знании: к 70-летию академика В.А. Тишкова. М.: Наука. С. 425-438
- Абаева Л.Л. 2018. Религиозная культура монгольских народов в векторе буддийских традиций. Улан-Удэ: Бурят-Монгол ном. 367 с
- Бабу лама (В.А. Чимитдоржиев). 2011. Основы религиозных культур и светской этики в образовательном пространстве России. - Мир буддийской культуры: материалы всероссийской научно-практической конференции "Потенциал буддийской культуры России в решении социальных проблем". Агинское, Чита. С. 151-159
- Бадмацыренов Т.Б. 2019. Буддийские сообщества Бурятии: священнослужители-профессионалы и буддисты-миряне. - Миряне и ламы: буддийские идеи и практики в трансформирующихся обществах России и Монголии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 15-41
- Цыдендамба С. 2019. Состояние буддизма в современной Монголии и государственная политика в отношении религии. - Миряне и ламы: буддийские идеи и практики в трансформирующихся обществах России и Монголии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. С. 64-79