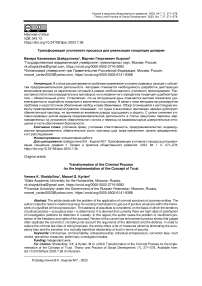Трансформация уголовного процесса для реализации концепции доверия
Автор: Шайдуллина В.К., Кырлан М.Г.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 7, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проблема применения уголовно-правовых санкций к субъектам предпринимательской деятельности. Авторами отмечается необходимость разработки действующих механизмов выхода из карательных ситуаций в рамках необоснованного уголовного преследования. Рассмотрена статистика оправдательных приговоров, на основании чего определена тенденция судебной практики - обвинительный уклон. Установлено, что на сегодняшний день отмечаются высокие показатели удовлетворенности ходатайств следствия о заключении под стражу. В связи с этим авторами актуализируется проблема о недостаточном обеспечении свобод и прав обвиняемых. Обзор сложившейся к настоящему моменту правоприменительной практики показывает, что судьи в выносимых приговорах нередко дублируют обвинительный приговор, не принимая во внимание доводы подсудимого и защиты. С целью снижения уголовно-правовых рисков ведения предпринимательской деятельности в статье предложен перечень мер, направленных на устранение обвинительного уклона и переход на взаимовыгодные доверительные отношения в части обеспечения безопасности.
Уголовное право, уголовная ответственность, предпринимательство, индивидуальные предприниматели, обвинительный уклон, приговор суда, мера пресечения, органы предварительного расследования
Короткий адрес: https://sciup.org/149143300
IDR: 149143300 | УДК: 343.13 | DOI: 10.24158/tipor.2023.7.38
Текст научной статьи Трансформация уголовного процесса для реализации концепции доверия
Безусловно, любое государство в соответствии с теми или иными экономическими и политическими причинами учитывает в уголовно-процессуальном законодательстве особенности экономических отношений, в частности, интересы и права предпринимательского сообщества как одного из столпов эффективного экономического развития. В данном случае речь идет о прямой корреляции эффективности правоохранительной и судебной системы и мотивации инвесторов и граждан к реализации предпринимательской инициативы.
Уровень доверия к судам и правоохранительным органам в более широком смысле является одной из характеристик эффективности делового климата в стране. В связи с этим привлекательность Российской Федерации и ее субъектов для инвестирования во многом определяется оценкой бизнес-сообщества существующей судебной и правоохранительной систем. Чем меньше предприниматели сталкиваются с отрицательными сторонами правоохранительного и судебного разбирательства (особенно в случае наличия необъективных внешних факторов или попыток давления), тем выше будет показатель доверия к соответствующим органам. Соответственно предпринимательская активность будет расти в связи с уверенностью в том, что право собственности и иные законные права и интересы будут защищены. Однако в погоне за ростом предпринимательской активности нельзя забывать и об общественных приоритетах в сфере безопасности.
В связи с этим, разрабатывая практические рекомендации в части совершенствования правоохранительной и судебной систем, мы исходили из необходимости соблюдения баланса между государством, обществом и бизнесом в вопросах экономической и социальной безопасности. Если речь идет о преступлениях в сфере бизнеса, то, по нашему мнению, юридическая ответственность должна быть не столько карательной, сколько предусматривающей имущественные (материальные) потери. Иными словами, ответственность за экономические преступления должна обладать таким же характером, каким обладают сами правонарушения. При таком подходе удастся добиться оптимального их предупреждения (Халиков, 2021).
Субъектам предпринимательской деятельности нужны реально действующие механизмы (Рябченко, 2021), не просто способные защищать их от необоснованного уголовного преследования, но и позволяющие находить достойный выход из карательной ситуации при законном возбуждении уголовного дела.
Вне зависимости от обоснованности уголовного преследования нормы, предусматриваемые Уголовным кодексом Российской Федерации1 и Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации2, должны обеспечивать помимо возмещения вреда сохранение у бизнесменов желания продолжать заниматься предпринимательством (даже под контролем правоохранителей). Данный процесс можно назвать уголовно-правовым стимулированием экономики. Сам выбор дальнейшей судьбы предпринимателя (привлечение к уголовной ответственности или стимулирование) остается за судом и правоохранительными органами.
Механизмы принятия решений в пользу субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел являются довольно сложными и находятся в зависимости от ряда криминалистических и процессуальных аспектов. Также необходимо помнить об определенной возможной виктимности и предпринимателей, и всей предпринимательской сферы в целом (Леха-нова, 2001). В таких условиях особенностями расследования «предпринимательских преступлений» диктуются условия, основывающиеся на положениях Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации3, переводящие такие дела в «льготную» категорию. Это дает следователям возможность смягчать уголовную ответственность для предпринимателей (вплоть до прекращения дела) (Сопнева, Анопко, 2021). Однако четкая системность уголовно-правовой поддержки субъектов бизнес-структур при расследовании уголовных дел отсутствует. Каждый случай зависит от того, как конкретное должностное лицо относится к подследственному либо уголовному делу. Это влечет за собой возможности силового давления на бизнес, в результате которого предприниматель с положительными характеристиками оказывается в местах лишения свободы.
Отечественное уголовно-процессуальное законодательство построено с учетом международных принципов, в числе которых принцип обеспечения права подсудимого на защиту и принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве (Гравина, 2019). Несмотря на это, в уголовных делах об экономических преступлениях (в том числе по так называемым «предпринимательским» статьям) (Трунов, 2022) до сих пор присутствует обвинительный уклон. Ежегодно отечественные суды выносят меньше 1 % оправдательных приговоров по таким делам. Например, в 2021 г. из общего числа дел исследуемой категории, рассмотренных судами, оправдательные приговоры были вынесены в 0,28 % случаев; в 2020 г. – в 0,25; в 2019 г. – в 0,27; в 2018 г. – в 0,23; в 2017 г. – в 0,24; в 2016 г. – в 0,34 % случаев1.
Кроме того, анализ судебной практики за несколько лет показывает стабильно высокие показатели удовлетворенности ходатайств следствия о заключении под стражу. Этот показатель в среднем находится на отметке 89 %, т. е. из десяти удовлетворяется 9 ходатайств. Соответственно, российские суды практически всегда занимают сторону обвинения, заинтересованную в том, чтобы субъект был заключен под стражу. Это обстоятельство затем используется для давления. Изменение меры пресечения происходит часто тогда, когда обвиняемый признает свою вину2. Безусловно, подобная статистика в условиях рискового характера предпринимательской деятельности влечет за собой снижение инвестиционной привлекательности российского бизнеса.
В России уголовные дела направляются в суд после предварительного расследования. Именно этим противники существования обвинительной идеологии объясняют малое количество оправдательных приговоров. Дело в том, что при отсутствии достаточных доказательств виновности лица суд вообще не состоится и никакой приговор вынесен не будет. По мнению некоторых экспертов, система судопроизводства в нашей стране построена так, что уголовное дело при отсутствии основания не будет возбуждено3. Главным условием для этого выступает наличие совокупности признаков состава уголовного преступления. Если оно не соблюдено, то уголовное преследование прекращается. Также в суды не попадают дела, если расследование было необъективным либо неполным. В таком случае прокурор возвращает дело для повторного расследования (Заева, 2017). Приведенные аргументы не свидетельствуют об отсутствии в отечественных судах обвинительной идеологии. Официальная статистика показывает только количество обвинительных и оправдательных приговоров. Однако из этих данных нельзя понять реальные масштабы обвинительного уклона правоохранительной системы, так как случаи незаконного осуждения в статистику не попадают. Если невиновное лицо было осуждено и лишено свободы несправедливо, то данный факт не отразится в статистике.
В Российской Федерации доля оправдательных приговоров крайне низкая – меньше 1 %4. Это может свидетельствовать о том, что права и свободы обвиняемых обеспечиваются в недостаточной степени. На невысоком уровне в настоящее время находится доля изменений приговоров судов первой инстанции в апелляционном и кассационном порядке. Данная проблема довольно серьёзная. Она затрагивает не только суды, но также органы, задействованные в уголовном судопроизводстве. По замечанию экспертов, оправдательные приговоры в нашей стране воспринимаются как недостаток работы правоохранителей и потому являются нежелатель-ными5. Суды общей юрисдикции выносят их крайне редко (настолько редко, что их можно считать статистической погрешностью). Если оправдательный приговор обжалуется в вышестоящую инстанцию, то чаще всего его отменяют.
Верховный суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что приговоры должны выноситься в соответствии с принципом презумпции невиновности, предусматриваемым Конституцией Российской Федерации6, а окончательные судебные решения не должны строиться на предположениях7. Тем не менее эти заявления на практике не соблюдаются и носят исключительно декларативный характер. Сказанное позволяет говорить о существовании в су- дах общей юрисдикции обвинительной идеологии. Следует отметить, что такая ситуация сложилась не только в России, но и во всех странах СНГ. На Западе дело обстоит иначе, что подтверждается данными официальной статистики. Так, в Соединенных Штатах Америки, Германии и Франции судами выносится примерно 20 % оправдательных приговоров1.
Не так давно был проведен анонимный опрос судей (Медведева и др., 2018), показавший, что оправдательные приговоры выносятся судьями крайне редко, а часть из них затем и вовсе отменяется. Так, респондентам был задан вопрос о частоте вынесения оправдательных приговоров в их практике. Из всех участников исследования не выносили оправдательных приговоров 70 %. Остальные 30 % опрошенных судей сообщили об одном – двух благоприятных для обвиняемого исходах рассмотрения уголовных дел, но даже половина этих оправдательных договоров была впоследствии отменена (Медведева и др., 2018).
Обзор сложившейся к настоящему моменту правоприменительной практики показывает, что судьи в своих решениях нередко дублируют обвинительный приговор, не принимая во внимание ни доводы подсудимого, ни доказательства его защитника.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 55 от 29.11.2016 г. «О судебном приговоре»2 содержится два главных запрета: на перечисление в приговоре следственных действий и доказательств, а также на копирование текста обвинительного заключения (даже частично). При этом обращается внимание на необходимость раскрытия их основного содержания. Из вышеприведенного документа можно сделать вывод, что проблема обвинительного уклона действительно существует в современной России и нуждается в решении. Считаем, что главная причина обвинительной идеологии в судебной практике заключается в том, что оправдательный приговор ставит под сомнение работу дознавателей, следователей и прокуроров, проведённую на досудебной стадии. Оправданный получает право на возмещение вреда и реабилитацию, а поскольку в период судопроизводства многие обвиняемые содержатся под стражей, то они с большой степенью вероятности воспользуются им в случае вынесения оправдательного приговора.
Еще одна из причин низкой доли оправдательных приговоров заключается в нежелании судей портить отношения с прокурорами и следователями.
Некоторыми экспертами выделяются и такие причины обвинительного уклона в судебной практике, как сокращение полномочий суда присяжных, административное деление территорий, полномочия председателей судебных органов, порядок финансирования (Медведева и др., 2018). На наш взгляд, с целью снижения уголовно-правовых рисков ведения предпринимательской деятельности необходима реализация мер, направленных на устранение обвинительного уклона и перехода на взаимовыгодные доверительные отношения в части обеспечения безопасности. Так, требуется:
-
1) изменить процессуальную роль органов предварительного расследования с обвинительной на иную, отражающую их заинтересованность в установлении объективной истины. На данный момент органы следствия и дознания относятся к стороне обвинения. Это обстоятельство обусловливает обвинительный характер судебной деятельности. Сбором доказательственного материала занимаются должностные лица, в сферу полномочий которых входит производство по делу. При этом возможность использовать данные, полученные стороной защиты, зависит от решения следователя, выступающего на стороне обвинения. По нашему мнению, ситуация, при которой ходатайство, направленное на получение доказательств, оправдывающих подсудимого, сторона защиты адресует стороне обвинения, является крайне нелогичной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в удовлетворении таких ходатайств, заявляемых в ходе предварительного расследования, часто отказывают. По этой причине опытные адвокаты представляют имеющиеся доказательства не в ходе предварительного расследования, а в судебном следствии (Ясельская, 2015).
Собирание дознавателями и следователями доказательственного материала, подтверждающего невиновность подсудимого, определяется характером правоохранительной деятельности этих участников судопроизводства, поскольку они в любом случае представляют сторону обвинения. Меры, связанные с поиском доказательств, реабилитирующих подсудимого, и их получением, направлены не столько на его оправдание, сколько на то, чтобы обеспечить объективность. Критическое отношение к имеющимся доказательствам виновности обвиняемого обусловлено требованием, закрепленным в ст. 85 УПК РФ3, где говорится, что процессом доказывания должна охватываться проверка доказательств для установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ1. При расследовании следователь или дознаватель должен ставить под сомнение поступающую информацию и принимать необходимые меры для получения достаточных материалов, способных окончательно опровергнуть либо подтвердить виновность обвиняемого. В связи с этим предлагается исключить органы предварительного расследования из числа сторон обвинения, придав им статус лиц и органов, осуществляющих производство по уголовному делу, установив в прямой обязанности сбор всех имеющихся доказательств по делу;
-
2) расширить круг предпринимателей, в отношении которых запрещено применение меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласно ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ2 заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении ряда экономических преступлений. На практике данные положения не всегда актуализируются, так как лица не признаются осуществляющими предпринимательскую или иную экономическую деятельность3. Необходимо расширить перечень типов предпринимателей в данной статье, включив в него самозанятых лиц, членов органа управления некоммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением некоммерческой деятельности; граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без государственной регистрации. Кроме того, Верховному суду Российской Федерации необходимо разработать постановление пленума, разъясняющего критерии отнесения лица к числу предпринимателей. В частности, ими можно считать: правовой статус и (или) организационно-правовую форму обвиняемого (подозреваемого); характер осуществляемой деятельности (направлена на извлечение прибыли, имеет рисковый характер и пр.); добросовестность поведения, предшествующего совершению преступления; наличие деловой репутации, сведений об осуществлении предпринимательской деятельности в различных источниках информации и пр.;
-
3) расширить перечень подсудности уголовных дел в отношении предпринимателей суду с участием присяжных заседателей, а также разработать и нормативно закрепить перечень обязательных критериев отбора последних. Присяжные заседатели могут участвовать в рассмотрении уголовных дел по отдельным составам уголовно наказуемых преступлений из категории особо тяжких, перечисленных в особом закрытом перечне (гл. 42 УПК РФ4). Например, в него входят дела по таким преступлениям, как изнасилование; убийство; посягательство на жизнь судьи, следователя, государственного деятеля; производство, контрабанда, сбыт наркотиков. В 2020 г. количество оправданий в суде присяжных в сравнении с 2019 г. немного увеличилось. За первые полгода 2020 г. районными судами практически по каждому третьему делу был вынесен оправдательный приговор (в процентном соотношении это составляет 29,8 %). В областных судах за аналогичный период было вынесено оправдательных приговоров по 21,9 % дел. По всем судам в целом было оправдано 85 лиц (28,8 % от общего числа всех приговоров)5.
Количество оправданий зависит от целого ряда факторов, а именно от убедительности имеющихся доказательств, подготовленности сторон, качества проведенного расследования и др. С учетом того, что российские суды достаточно опытны в рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей, предлагается распространить данную практику не только на уголовные дела по всем особо тяжким преступлениям, но и на дела по «предпринимательским преступлениям», если в материалах дела фигурируют сведения, которые относятся к государственной тайне. Необходимо внести соответствующие поправки в ст. 30 УПК РФ6. В таком случае у лиц, которым предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого, тяжкого преступления или преступления средней тяжести в предпринимательской сфере, появится право на подачу ходатайств о рассмотрении дела коллегией присяжных заседателей;
-
5) установить обязанность следователя приобщать позицию, поступившую от признанных общественных организаций, а также от уполномоченных по защите прав предпринимателей, к
материалам уголовного дела для того, чтобы прокуратура при утверждении обвинительного заключения имела возможность увидеть независимую оценку в случае поступления обращений в адрес уполномоченных по защите прав предпринимателей, а также в общественные организации от лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела;
-
6) запретить передачу уголовного дела судье, ранее рассматривавшему по нему ходатайство об избрании подсудимому меры пресечения. Подобная практика в нашей стране существует практически повсеместно и в некоторой степени служит усилению обвинительного уклона судебной деятельности. Судьи, рассматривавшие ходатайства об избрании подсудимому меры пресечения и обеспечительных мер, действуют в рамках своих полномочий, предусматриваемых уголовно-процессуальным законодательством для стадии предварительного расследования и возбуждения уголовного дела. Они не принимают участия в рассмотрении уголовных дел по существу, а также в пересмотре решений суда в порядке надзора, кассации и апелляции либо в связи с вновь открывшимися или новыми обстоятельствами. Судья осуществляет правосудие по делам, относимым к его подсудности: оказывает сторонам содействие в сборе доказательств путем проведения следственных судейских действий; осуществляет контроль за наличием законных оснований для передачи дела в суд и соблюдением конституционных прав человека.
Российская судебная система пронизана обвинительной идеологией, а практика рассмотрения одними и теми же судьями сначала ходатайств об избрании меры пресечения на досудебной стадии, а затем слушание дела по существу только усиливают данную идеологию1. При реализации данного предложения в малонаселенных пунктах, где количество судей недостаточно, предлагается использовать выездные заседания суда.
В качестве примера приведем эффекты от введения в 2015 г. подобного разделения компетенций разных судей в Казахстане. В 2019 г. судьями было рассмотрено свыше 90 тысяч ходатайств об избрании меры пресечения (в 2018 г. это значение было меньше на 13 %). Следственным органам все чаще отказывают в выдаче санкции на содержание обвиняемых и подозреваемых под стражей. В сравнении с уровнем 2018 г. количество арестов уменьшилось на 4,2 % (87,9 % удовлетворенных ходатайств). Чаще стали применяться такие меры, как залог и помещение под домашний арест. Органы следствия теперь сталкиваются с дополнительными сложностями при получении других санкций. В 2019 г. следственными судьями не было поддержано 26 % ходатайств об аресте имущества. Также в течение этого периода было удовлетворено 42 % жалоб, поступивших на действия прокуроров, дознавателей, следователей. Уже можно говорить о сформированной практике привлечения к ответственности по частным постановлениям судей должностных лиц органов прокуратуры и уголовного преследования. Таким образом, судьи способствовали серьезным изменениям в системе правоохранительных органов. В целом их деятельность стала фактором, усилившим прокурорский надзор и ведомственный контроль за предварительным следствием2. В связи с этим предлагается установить запрет на рассмотрение уголовного дела по существу судьей, ранее принимавшим ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемому по нему.
Предлагаемая реформа поможет обеспечить доверие между бизнесом и органами власти, а также будет способствовать тому, чтобы бизнес не нес необоснованные уголовно-правовые риски ведения предпринимательской деятельности. При этом фактические расходы на осуществление реформы могут быть компенсированы в результате восстановления доверия к текущей судебной системе деловой активности граждан в сфере бизнеса, следствием чего станет наращивание капитала внутри страны, увеличение производственных мощностей в условиях им-портозамещения, повышение налоговых отчислений в результате ведения предпринимательской деятельности гражданами.
Список литературы Трансформация уголовного процесса для реализации концепции доверия
- Гравина А.А. Гуманизация уголовного законодательства и ее роль в предупреждении преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2019. № 8. С. 85-95. DOI: 10.12737/jrl.2019.8.8 EDN: GGOVKN
- Заева О.П. Актуальные проблемы возвращения уголовных дел на дополнительное расследование // Общество и право. 2017. № 3 (61). С. 121-124. EDN: ZGUSAF
- Леханова Е.С. Некоторые проблемы виктимологии экономических преступлений // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. 2001. № 2. С. 159-160. EDN: HROVZZ
- Медведева С.В., Ментюкова М.А., Попов А.М. Обвинительный уклон в уголовном процессе: проблемы правоприменения // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3. С. 137-141. EDN: XUMKWL
- Рябченко О.Н. Современные тенденции привлечения к уголовной ответственности за воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности в свете концепции защиты прав предпринимателей // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2021. Т. 31, № 5. С. 891-896. DOI: 10.35634/2412-9593-2021-31-5-891-896 EDN: SUAGYT
- Сопнева Е.В., Анопко О.А. Предприниматели и уголовный процесс: обзор проблем и решений // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96). С. 115-120. EDN: VDSUDB
- Трунов А.П. Преодоление обвинительного уклона российского правосудия // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17, № 6 (139). С. 122-132. DOI: 10.17803/1994-1471.2022.139.6.122-132 EDN: XWTSZQ
- Халиков А.Н. Уголовно-процессуальные и криминалистические средства защиты экономических отношений и предпринимательства в Российской Федерации // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 3 (98). С. 136-141. EDN: BGENIP
- Ясельская В.В. О совершенствовании порядка разрешения ходатайств на стадии предварительного расследования // Уголовная юстиция. 2015. № 2 (6). С. 67-69. DOI: 10.17223/23088451/6/13 EDN: VQGPVZ