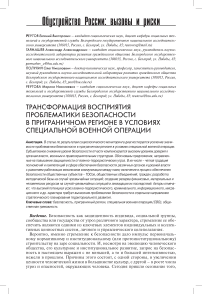Трансформация восприятия проблематики безопасности в приграничном регионе в условиях специальной военной операции
Автор: Реутов Е.В., Гармашев А.А., Полухин О.Н., Реутова М.Н.
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье по результатам социологического мониторинга диагностируется усиление значимости проблематики безопасности в приграничном регионе в условиях специальной военной операции. Субъективное снижение уровня безопасности отчасти компенсируется высоким уровнем доверия к органам власти, военным и правоохранительным структурам. Обоснованы предложения, направленные на повышение защищенности от военно-террористических угроз. В их числе - четкая градация полномочий и компетенций в сфере обеспечения безопасности различных органов и уровней власти с развитием работающих механизмов коммуникации между ними; включение в процесс обеспечения безопасности общественных субъектов - ТОСов, общественных объединений, граждан; разработка методической базы на случай чрезвычайных ситуаций; создание резерва финансовых, материальных и человеческих ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Авторы отмечают, что высокий потенциал угроз военно-террористического, криминального, информационного, миграционного и др. характера требует вынесения проблематики безопасности в отдельное направление стратегического планирования территориального развития.
Безопасность, приграничный регион, специальная военная операция (сво), общественная тревожность
Короткий адрес: https://sciup.org/170199998
IDR: 170199998 | DOI: 10.31171/vlast.v31i4.9695
Текст научной статьи Трансформация восприятия проблематики безопасности в приграничном регионе в условиях специальной военной операции
Введение. Безопасность как защищенность индивида, социальной группы, сообщества или государства от угроз различного характера, стремление ее обеспечить являются одними из ключевых элементов индивидуальных и коллективных ценностных систем, личного и управленческого целеполагания.
Вероятно, именно стремление к безопасности дало импульс первоначальному нормативному и институциональному (или протоинституциональному) строительству на заре социальности. И, несмотря на эволюцию человеческого общества, его культурное и институциональное развитие, запрос на безопасность в настоящем выражен с не меньшей, а то и большей интенсивностью, нежели в прошлом. Причины этого состоят, с одной стороны, в увеличении ценности человеческой жизни в большинстве культур, с другой – в росте числа угроз и опасностей, окружающих человека. Сегодня пришло осознание того, что угрозам подвержены не только жизнь, здоровье и имущество индивида или даже само существование государства, как в обществах традиционного типа, но и мышление, психика индивида и общества (информационные и коммуникационные угрозы), экономическая, технологическая и политическая суверенность социетальных систем, цивилизационные основы общества, не говоря уже о таких специфических сферах, как информационно-коммуникационные технологические системы (кибербезопасность).
В хрестоматийной «пирамиде потребностей» А. Маслоу безопасность следует сразу же за физиологическими потребностями [Маслоу 1999], т.е. отнесена к базовым. И несмотря на то что концепция американского психолога носила гипотетический характер, а сам он указывал на отсутствие жесткой иерархии видов потребностей как универсальной категории, базовый характер потребности в безопасности получил многочисленные эмпирические подтверждения. Так, на примере исследования городских сообществ коллектив чешских авторов подтвердил логически достаточно очевидную гипотезу, в соответствии с которой субъективно осознаваемая безопасность положительно влияет на самочувствие горожан, тогда как ее снижение приводит к деградации городской среды и росту преступности [Panek, Ivan, Macrove 2019: 401].
В предлагаемом россиянам перечне прав и свобод человека они стабильно ставят на первое место право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность (данные мониторинга Левада-Центра, 2017–2021 гг.). В конце 2021 г. к числу наиболее важных прав и свобод право на личную неприкосновенность отнесли 75% опрошенных россиян. Правда, таким образом россияне оценили лишь один из аспектов безопасности. Что касается неприкосновенности имущества, жилища, то к числу наиболее значимых его отнесли 53% опрошенных, а право на свободу от насилия, унижений и произвола – 44%. Но и эти права также находятся далеко не на низших позициях1.
Региональная безопасность, в т.ч. применительно к приграничным регионам, достаточно активно исследовалась в предыдущие десятилетия. Однако ключевыми аспектами ее были прежде всего экономическая безопасность, рассматриваемая как «защищенность национального хозяйства на экономической территории региона» [Гордиенко 2016: 85], и социальная безопасность как еще более широкое и всеобъемлющее понятие, обозначающее «одновременно актуальное состояние защищенности от внутренних и внешних вызовов и угроз и потенциал развития, наличие оптимальных условий функционирования социума» [Омельченко, Максимова, Ноянзина 2021: 16]. При этом достаточно общим местом многих публикаций является вывод о том, что «восприятие безопасности связано с оценкой социально-экономического благополучия региона» [Горбунова, Борисова, Максимова 2019: 36].
События 2022–2023 гг. (специальная военная операция как элемент более масштабного геополитического конфликта, имеющего комплекс измерений) существенным образом повлияли на уровень и характер угроз для российского и региональных социумов.
Методы и организация исследования. Целью данной статьи является репрезентация проблематики безопасности в приграничном регионе в условиях специальной военной операции (на материалах социологического исследования) с предложением «рамочных» решений, направленных на повышение защищенности от военно-террористических угроз. Эмпирической базой статьи являются результаты мониторингов ведущих социологических служб России, отражающих различные аспекты восприятия россиянами СВО и проблематики безопасности в целом, а также данные социологического мониторинга, проведенного в 2022–2023 гг. лабораторией развития гражданского общества Белгородского государственного национального исследовательского университета.
Обсуждение результатов исследования. В связи со специальной военной операцией угрозы военно-террористического характера объективно приобрели особую актуальность для российского социума. Соответственно, изменилось и субъективное восприятие данных угроз, измеряемое, например, уровнем общественной тревожности, еженедельно фиксируемым фондом «Общественное мнение». Так, по данным мониторинга ФОМа, в первой половине февраля 2022 г. доля россиян, в ближайшем окружении которых преобладали тревожные настроения, составляла от 44% до 46%. Сразу после начала СВО эта доля выросла до 55%. В дальнейшем уровень тревожности снизился – вплоть до резкого скачка в конце сентября 2022 г. (до 69–70%)1, обусловленного объявлением частичной мобилизации. Характерной чертой динамики общественной тревожности в первый год СВО стали ее достаточно резкие, «ломаные» изменения – как реакция общественных настроений на высочайшую неопределенность ситуации. И хотя в настоящее время уровень тревожности в целом почти вернулся к периоду до СВО, общественные настроения приобрели характер повышенной реактивности и изменчивости, готовности к резким перепадам, т.е. фактически стали близки к стрессовым.
Другим значимым изменением в восприятии проблематики безопасности стало выдвижение на первый план военно-террористических угроз. В настоящее время безопасность региона в массовом восприятии – это уже не способность к воспроизводству и реализации его ресурсного потенциала, но прежде всего защищенность от вооруженного вторжения, террористических актов и диверсий.
Вместе с тем следует понимать, что российское общество, даже в ситуации СВО, далеко не однородно по своему восприятию и ситуации в целом, и отдельных ее аспектов, связанных с угрозами и обеспечением личной и общественной безопасности. Как отмечает А.В. Мозговая, «оценки социальной защищенности – это своеобразное отражение институционального доверия через призму конкретного опыта взаимодействия с социальной средой» [Мозговая 2022: 141]. И этот конкретный опыт может быть совершенно различен в зависимости от степени и характера вовлеченности человека в неблагоприятную для личной и коллективной безопасности ситуацию.
По данным мониторинга Левада-Центра (признан иноагентом), в настоящее время опасения терактов в России приблизительно соответствуют среднегодовому уровню последних 17–18 лет и заметно менее выражены, чем в 1999– 2005 гг. – в период чеченских кампаний. Так, очень боятся за себя и своих близких в этом отношении 16% опрошенных россиян; в какой-то мере опасаются 39%; уверены, что с ними и их близкими ничего подобного не случится, 15%; не задумываются об этом 28%. Для сравнения, в 2017 г. (предпоследняя волна мониторинга) сильные опасения испытывали также 16%, в какой-то мере опа- сались – 50%. А вот в 1999 г. сильные опасения испытывали 42% респондентов, частичные – 44%1.
Таким образом, российский социум в большинстве своем ментально дистанцирован от специальной военной операции как угрозы или вызова всему российскому обществу, а не только те, кто непосредственно вовлечен в ее проведение, или, по крайней мере, старается дистанцироваться. Другим объяснением данного феномена может быть высокий уровень уверенности в способности власти и силовых структур страны не допустить терактов на территории России, хотя данная уверенность в нынешней ситуации выглядит несколько иррациональной.
Если на общероссийском уровне скачки тревожности, обусловленные ситуативными обстоятельствами (например, началом частичной мобилизации), впоследствии практически полностью компенсируются, то в приграничных регионах тревожность практически постоянно (по крайней мере, с конца лета 2022 г.) находится на высоком уровне, существенно отличаясь от общенационального.
Так, в ходе социологического мониторинга лаборатории развития гражданского общества НИУ «БелГУ» (апрель 2023 г.), отвечая на вопрос: «Какие именно опасности в регионе вызывают у вас наибольшее беспокойство?» – 76,5% респондентов назвали «сохранение напряженной ситуации в районе СВО, риск попадания в зону боевого поражения», тогда как традиционный приоритет общественного беспокойства – «неконтролируемый рост цен на товары и услуги» оказался на втором месте со значительным отрывом (33,5%). То же самое относится и к сокращению доступа к бесплатному образованию, медицинскому обеспечению – стандартному предмету обеспокоенности граждан, который в данном случае оказался далеко не на первых позициях (13,1%) (см. табл. 1).
Но особенно показательным выглядят результаты замера субъективной оценки безопасности в локальных параметрах – от дома до региона в целом. В августе 2022 г., даже уже в условиях СВО, данные оценки были относительно благоприятными, хотя и снижались по мере расширения локуса. Так, свой дом спокойным, безопасным могли назвать 96,0% опрошенных жителей Белгородской обл., свой двор/улицу – 86,9%, свой город/село – 82,2%, область в целом – 74,9%. В 2023 г. ситуация радикально изменилась – и чем шире локус, тем оценки стали более тревожными. Свой дом безопасным считали уже 74,5% опрошенных, дом/улицу – 68,9%, город/село – 46,2%, область в целом – 21,1%. По сравнению с 2022 г. также существенно выросла неопределенность, диагностируемая долями затруднившихся с ответом (см. табл. 2).
Таким образом, специфика ситуации в приграничном регионе, постоянный и регулярный характер угроз не просто актуализируют проблему безопасности, но переводят ее из абстракции, пусть и экзистенциального характера, в совершенно конкретное понятие, имеющее четкое дескриптивное описание, включающее, например, наличие укрытий и возможность до них добраться или же своевременное оповещение о начавшемся обстреле.
Постоянное ощущение небезопасности, высокий уровень тревожности оказывают мобилизующее воздействие на людей, заставляя их рационализировать свое поведение в поисках наиболее безопасных альтернатив. Но вместе с тем
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос (многовариантный): «Какие именно опасности в регионе вызывают у вас наибольшее беспокойство?»*
|
Вариант ответа |
% ответов |
% опрошенных |
|
Сохранение напряженной ситуации в районе СВО, риск попадания в зону боевого поражения |
24,8 |
76,5 |
|
Неконтролируемый рост цен на товары и услуги |
10,9 |
33,5 |
|
Низкий уровень жизни значительной части населения, массовое обеднение населения |
7,6 |
23,5 |
|
Рост алкоголизма, наркомании |
7,2 |
22,3 |
|
Охлаждение отношений России с Западом |
6,0 |
18,6 |
|
Рост преступности, в т.ч. среди детей и подростков |
5,2 |
16,1 |
|
Возможность новых терактов |
5,2 |
16,0 |
|
Реформирование пенсионной системы, отмена системы льгот |
4,5 |
13,8 |
|
Перебои в работе системы ЖКХ, рост жилищнокоммунальных платежей |
4,3 |
13,4 |
|
Сокращение доступа к бесплатному образованию, медицинскому обеспечению |
4,2 |
13,1 |
|
Коррупция, засилье бюрократии |
3,8 |
11,8 |
|
Снижение морали и нравственности, падение семейных ценностей |
3,7 |
11,4 |
|
Обострение межнациональных противоречий в обществе |
3,5 |
10,9 |
|
Рост численности нерусского населения в традиционно русских областях |
3,2 |
9,9 |
|
Низкая гражданская и правовая культура людей, неумение бороться за свои права |
3,1 |
9,7 |
|
Ограничение свободы слова в центральных и региональных СМИ |
1,8 |
5,5 |
|
Затрудняюсь ответить |
0,9 |
2,8 |
* До 5 вариантов ответа.
это серьезный стрессогенный фактор, влекущий различные социальные патологии и деструктивные формы поведения, направленные и на самого носителя стресса, и на его социальное окружение.
Значимым социально-психологическим механизмом, позволяющим снизить уровень общественной тревожности и канализировать ее в те или иные формы мобилизации, является доверие к государственным и общественным институтам, отражающее как эффективность последних в обеспечении безопасности, так и их способность убедить граждан в таковой.
Данные опроса свидетельствуют о высоком уровне доверия жителей региона институтам, специализирующимся на обеспечении общественной безопасности либо в силу своего стандартного функционала (военные и другие органы безопасности), либо в связи с чрезвычайными обстоятельствами.
Таблица 2
|
2022 |
2023 |
|||||
|
Скорее да |
Скорее нет |
Затрудняюсь ответить |
Скорее да |
Скорее нет |
Затрудняюсь ответить |
|
|
…ваш дом |
96,0 |
4,0 |
0 |
74,5 |
11,1 |
14,3 |
|
…ваш двор/улицу |
86,9 |
10,7 |
2,4 |
68,9 |
16,0 |
15,2 |
|
…ваш город/село |
82,2 |
14,9 |
2,9 |
46,2 |
39,1 |
14,7 |
|
…ваш регион |
74,9 |
20,7 |
4,4 |
21,1 |
68,9 |
10,0 |
|
…место Вашей работы |
* |
* |
* |
50,8 |
14,6 |
34,6 |
*Вариант отсутствовал.
Распределение ответов на вопрос:
«Можете ли Вы назвать спокойным, безопасным?.., %
Так, военные и другие органы безопасности в вопросах защиты границы региона считают скорее способными обеспечить безопасность 83,8% опрошенных жителей региона, скорее неспособными – 9,2%; губернатора региона считают скорее способным обеспечить безопасность 80,4% опрошенных жителей региона, скорее неспособным – 11,4%; правительство региона считают скорее способным обеспечить безопасность 70,3% опрошенных жителей региона, скорее неспособным – 18,9%; местные органы власти (городские, районные) считают скорее способными обеспечить безопасность 68,2% опрошенных жителей региона, скорее неспособными – 21,4%; общественные военизированные формирования (территориальную самооборону) считают скорее способными обеспечить безопасность 73,5% опрошенных жителей региона, скорее неспособными – 15,1% (см. табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Считаете ли Вы следующие структуры способными обеспечить Вашу безопасность?», %
|
Структуры |
Да, скорее способны |
Нет, скорее не способны |
Затрудняюсь ответить |
|
Военные и другие органы безопасности в вопросах защиты границы региона |
83,8 |
9,2 |
7,0 |
|
Губернатор региона в вопросах обеспечения безопасности в регионе |
80,4 |
11,4 |
8,2 |
|
Правительство региона в вопросах обеспечения безопасности в регионе |
70,3 |
18,9 |
10,8 |
|
Местные органы власти (городские, районные) в обеспечении безопасности в регионе |
68,2 |
21,4 |
10,4 |
|
Общественные военизированные формирования (территориальная самооборона) |
73,5 |
15,1 |
11,4 |
Высокий уровень доверия к органам власти, правоохранительным и силовым структурам в вопросах обеспечения безопасности, с одной стороны, существенно облегчает формирование единой системы безопасности, объединяющей государственные, муниципальные, общественные интересы и структуры, но с другой – создает повышенный запрос к обозначенным органам, надежду на то, что данная система будет сформирована и позволит обеспечить личную и коллективную безопасность.
Заключение. Безусловно, решение проблемы безопасности в приграничном регионе в условиях военного конфликта и неопределенности геополитической ситуации может носить лишь ограниченный характер. Тем не менее очевидны те направления, в которых эта задача может находить решения, пусть и ограниченные. Это, во-первых, четкая градация полномочий и компетенций в сфере обеспечения безопасности различных органов и уровней власти (военной, правоохранительной, гражданской, федеральной, региональной, местной и пр.) с развитием работающих механизмов коммуникации между ними. Во-вторых, необходимо включение в процесс обеспечения безопасности общественных субъектов – ТОСов, общественных объединений, граждан. В-третьих, следует разработать методическую базу на случай чрезвычайных ситуаций как для общего, так и для служебного пользования – памятки, регламенты и пр. В-четвертых, необходимо создание резерва финансовых, материальных и человеческих ресурсов на случай чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. И наконец, никакие чрезвычайные ситуации не являются поводом для ослабления систематической правоохранительной, правозащитной, природоохранной и иных видов деятельности, обеспечивающих защищенность прав граждан и ощущение стабильности существования.
Проблема комплексной безопасности Белгородской обл. как приграничного региона с долгосрочным и крайне высоким потенциалом угроз военно-террористического, криминального, информационного, миграционного и др. характера, требует вынесения проблематики безопасности в отдельное направление стратегического планирования территориального развития.
При этом в процессе стратегического планирования проблему обеспечения безопасности в регионе целесообразно решать комплексно – с предложением разработки средне- и долгосрочных мер по ключевым направлениям и угрозам:
-
1) военный вектор, связанный с укреплением границы, взаимодействием с Пограничной службой ФСБ, Министерством обороны, строительством и совершенствованием (особенно информационно-техническим) оборонительной инфраструктуры, а также строительством укрытий и убежищ для населения;
-
2) антитеррористический вектор, связанный с ресурсным обеспечением профильных ведомств, усилением информационно-аналитической работы и специализированным мониторингом ситуации в регионе, привлечением к антитерро-ристической деятельности на систематической основе общественных структур;
-
3) криминальный вектор, связанный с повышенным вниманием к видам преступности с высоким потенциалом, в т.ч. обусловленным приграничным статусом региона и близостью зоны СВО (киберпреступность, преступления против несовершеннолетних, преступления с применением оружия, незаконный оборот оружия и наркотических средств и др.);
-
4) информационно-технологический вектор, связанный с кибербезопасностью, защищенностью от внешних воздействий критически важных информационных систем региона и персональных данных граждан;
-
5) информационно-коммуникационный вектор, связанный с защитой регионального сообщества от злонамеренных воздействий на массовое сознание
с использованием заведомо ложной информации, с превенцией панических настроений и не адекватного ситуации восприятия действительности.
Статья подготовлена в рамках программы «Приоритет–2030» № 23 320 016 «Разработка научно-методической базы мониторинга изменений социума приграничного региона в условиях специальной военной операции».
Список литературы Трансформация восприятия проблематики безопасности в приграничном регионе в условиях специальной военной операции
- Горбунова А.А., Борисова О.В., Максимова С.Г. 2019. Социальная безопасность приграничных регионов России. - Политика и общество. № 1. С. 36-45.
- Гордиенко Д.В. 2016. Сравнительная оценка перспектив изменения уровня экономической безопасности приграничных дальневосточных районов Российской Федерации. - Национальные интересы: приоритеты и безопасность. № 5(338). С. 80-103.
- Маслоу А. 1999. Мотивация и личность (пер. с англ. А.М. Татлыбаевой). СПб: Евразия. 478 с.
- Мозговая А.В. 2022. Адаптация к антикризисным мерам: права личности и общественная безопасность. - Социологическая наука и социальная практика. Т. 10. № 3. С. 134-147).
- Омельченко Д.А., Максимова С.Г. Ноянзина О.Е. 2021. Социальная безопасность региональных социумов российского приграничья: индивидуальные и институциональные факторы. - Society and Security Insights. Vol. 4. No. 3. P. 13-37.
- Pánek J., Ivan I., Macková L. 2019.Comparing Residents' Fear of Crime with Recorded Crime Data. Case Study of Ostrava, Czech Republic. - ISPRS International Journal of Geo-Information. Vol. 8. No. 9.