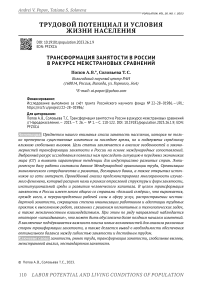Трансформация занятости в России в ракурсе межстрановых сравнений
Автор: Попов Андрей Васильевич, Соловьева Татьяна Сергеевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Трудовой потенциал и условия жизни населения
Статья в выпуске: 1 т.26, 2023 года.
Бесплатный доступ
Предметом нашего внимания стала занятость населения, которая не только претерпела существенные изменения за последнее время, но и подвержена серьёзному влиянию глобальных вызовов. Цель статьи заключается в анализе особенностей и закономерностей трансформации занятости в России на основе международных сопоставлений. Выбранный ракурс исследования позволил нам проследить ситуацию в передовых экономиках мира (G7) и выявить характерные тенденции для индустриально развитых стран. Эмпирическую базу работы составили данные Международной организации труда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также открытых источников из сети интернет. Проведённый анализ продемонстрировал многогранность изучаемого феномена, который раскрыт нами в рамках отраслевой структуры и форм занятости, институциональной среды и развития человеческого капитала. В целом трансформация занятости в России имеет много общего со странами «большой семёрки», что выражается, прежде всего, в перераспределении рабочей силы в сферу услуг, распространении нестандартной занятости, сокращении степени юнионизации работников и адаптации трудовых практик к выполнению работ, связанных с решением когнитивных и технологических задач, а также межличностным взаимодействием. При этом по ряду направлений наблюдается некоторое «запаздывание», что может быть обусловлено более поздним началом изменений. В заключение подчёркивается важность поиска новых возможностей для анализа различных сторон трансформации занятости, а также делается вывод о необходимости обеспечения оптимального баланса между гибкостью занятости и достойным трудом.
Занятость, рынок труда, трансформация занятости, глобальные вызовы, межстрановой анализ, нестандартная занятость
Короткий адрес: https://sciup.org/143179971
IDR: 143179971 | DOI: 10.19181/population.2023.26.1.9
Текст научной статьи Трансформация занятости в России в ракурсе межстрановых сравнений
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22–28–01986.— URL: –28–01986/.
Переход развитых стран к постиндустриальному обществу ознаменовал трансформационные сдвиги в занятости населения, отголоски которых прослеживались со второй половины XX века. Немаловажная роль в этом процессе отводится и глобальным вызовам (демографическое старение, цифровизация, экологизация), способствующим формированию нового облика человека труда и сферы социально-трудовых отношений в целом.
В самом общем виде под трансформацией занятости понимается процесс глубоких преобразований социально-экономических отношений, что приводит к качественным изменениям сложившихся практик участия населения в оплачиваемой общественно полезной деятельности [1, с. 20]. Подобные тенденции являются результатом накопления количественных изменений, затрагивающих вопросы отраслевой структуры рабочих мест, форм занятости, мотивов и стимулов к труду, «правил игры» на рынке труда [2] и так далее. Учитывая динамизм и противоречивость современного развития, в результате чего разрушение становится нормой 1 , занятость населения все чаще ассоциируется с гибкостью, разнообразием и неопределённостью. При этом в зависимости от страны ситуация будет меняться, сохраняя национальную специфику. В этой связи мы поставили перед собой цель выявить особенности и закономерности трансформации занятости в России на основе международных сопоставлений.
К числу наиболее обсуждаемых аспектов трансформационного процесса относятся структурные сдвиги в занятости населения. С точки зрения формирования спроса и предложения на рынке труда исследователи, как правило, анализируют проблемы обеспечения потребностей экономики в кадрах [3], а также изменения требований работодателей к ка- чественным характеристикам соискателей [4]. Ещё один широкий спектр работ посвящён изучению отраслевых перемещений работников в рамках первичного, вторичного и третичного секторов [5]. Принимая во внимание значимость последнего в постиндустриальном мире, отдельно выделяют подсекторы сферы услуг, включающие, например, оптовую и розничную торговлю, рестораны и гостиницы; транспорт, хранение и связь; финансы, страхование, недвижимость и бизнес-услуги; общественные социальные и персональные услуги [6].
Структурные сдвиги в экономике наряду с ростом глобальной конкуренции и другими факторами влекут за собой распространение гибких форм занятости, среди которых временная, неполная, случайная, самозанятость и другие [7]. Данный процесс наиболее характерно прослеживается в промышленно развитых странах, где ещё в прошлом веке был сформирован определённый стандарт, регламентирующий трудовые отношения между работником и работодателем. Этому способствует возникновение принципиально новых форм занятости (удалённая, платформенная, коллективная), где особая роль отводится цифровым возможностям. В этом плане технологические изменения зачастую рассматриваются как важнейший триггер трансформации, результатом которой может стать отмирание ряда профессий и замещение человеческого труда машинным [8; 9]. Согласно другим исследованиям, вероятность полной автоматизации труда весьма мала, поскольку масштабы появления новых рабочих мест будут перекрывать их потерю2. В частности, расчёты по России свидетельствуют об отсутствии реальных предпосылок для наступления масштабной технологической безработицы в обозримой перспективе [10].
Повышение гибкости занятости, с одной стороны, позитивно сказывается на формировании условий для вовлечения в трудовую деятельность социально уязвимых категорий населения и обеспече- ния более благоприятного баланса между работой и личной жизнью, с другой же — нередко оборачивается рисками прекари-зации [11]. Так, дистанционный труд, несмотря на достоинства, может повлечь за собой размытие границ рабочего времени [12, с. 109]. Этому «благоприятствует» законодательное регулирование, которое не всегда успевает за новыми практиками, однако в полной мере определяет контуры наметившихся изменений. Наряду с правовыми нормами влияние на динамику трансформации занятости оказывают и другие институциональные факторы. К ним относятся формальные институты (профсоюзы, минимальная заработная плата, пособия по безработице и т.д.), а также неформальные правила и ограничения со стороны субъектов рынка труда [13, с. 26–27].
Трансформация занятости происходит и на мотивационном уровне, детерминирующем профессиональные и карьерные траектории населения. Особенно это касается молодого поколения, которое предпочитает работу в творческой и инновационной среде, в профессиональном отношении ориентировано на ближайшее будущее, а не на длительную перспективу3. В современном обществе фокус внимания смещается в сторону досуга, ценность которого по сравнению с трудом повышается. Несмотря на то, что работа и семья остаются приоритетными сторонами человеческой жизни [14, с. 105–107], высокая самоценность труда вновь уступает место вопросам материального благополучия, выходящим на первый план при выборе трудовых стратегий [15, с. 64].
Материалы и методы
При проведении анализа мы ориентировались на подходы к изучению процесса трансформации занятости, которые были выделены нами ранее, что позволяет рассмотреть его особенности в разных ракурсах (табл. 1).
В силу ограниченности информационной базы были использованы показатели, характеризующие только четыре из них: отраслевой (структура занятости), организационно-правовой (формы занятости), институциональный (институциональная среда) и компетентностный (человеческий капитал). В качестве объекта исследования послужили страны «большой семёрки» (G7), которые стали основой для сравнения с Россией. Такой выбор обусловлен необходимостью учёта тенденций, происходящих в передовых экономиках мира, поскольку фактор общественного благосостояния непосредственно сказывается на занятости населения. Временные границы исследования заданы периодом с 2000 г., при этом верхняя граница интервала не была установлена для отображения наиболее актуальных сведений, что важно в случаях, когда данные по отдельным странам за определённые годы отсутствовали.
Результаты исследования
Структура занятости. Обращение к трехсекторной модели экономики служит одним из наглядных способов, позволяющих проследить трансформационные сдвиги в занятости населения. Так, постиндустриальный мир ознаменовал ярко выраженное перераспределение рабочей силы в пользу сферы услуг (табл. 2). В странах G7 её доля в структуре занятого населения превышает 70% и продолжает расти. С начала 2000-х гг. значения показателя в России увеличились на 11,1 процентных пункта (п. п.), достигнув отметки в 67%, что свидетельствует о наиболее сильной динамике среди рассматриваемых территорий. Этому способствовал эффект «низкой базы», в результате чего тенденция приобрела более масштабный характер.
Относительная стабильность наблюдается в первичном секторе экономики, где
Таблица 1
Основные подходы к изучению трансформации занятости
Main approaches to the study of employment transformation
Table 1
|
Название подхода |
Проявление трансформации занятости |
Измерение трансформации занятости |
|
Системный |
Комплексные изменения в занятости населения, протекающие в неразрывном единстве со стадиями общественного развития. |
Исследования носят преимущественно общетеоретический характер (в редких случаях используются показатели социальноэкономического развития территорий). |
|
Отраслевой |
Структурные сдвиги в занятости населения, представляющие «переток» рабочей силы из одних отраслей в другие. |
Показатели секторального распределения рабочей силы: доля занятых в первичном, вторичном и третичном секторах экономики. |
|
Институциональный |
Эволюция общественных институтов, приводящая к глубинным изменениям в характере трудовых отношений. |
Показатели развития общественных институтов (например, степень юнионизации работников). |
|
Организационноправовой |
Трансформация социально-экономических отношений по поводу организации трудового процесса и характера взаимодействия между работником и работодателем. |
Показатели распространения различных форм занятости (неполная, временная и т.д.). |
|
Компетентностный |
Изменениетребований экономики ккаче-ственным характеристикам населения, способствующее преобразованию сложившихся практик участия в трудовой деятельности. |
Показатели вклада различных навыков в экономику и их востребованности в будущем. |
|
Мотивационно-ценностный |
Переосмысление места труда в обществе, что приводит к изменению поведения людей на рынке труда. |
Показатели развития трудовой мотивации населения. |
Источник: составлено по [1].
Таблица 2
Структура занятости населения по секторам экономики в России и странах G7, %
Employment structure by sectors of the economy in Russia and the G7 countries, %
Table 2
В свою очередь перспективы занятости в промышленности носят противоречивый характер. С одной стороны, мы видим повсеместное сокращение удельного веса работников, что может быть следствием как деиндустриализации экономики, так и внедрения технологических инноваций, позволяющих оптимизировать трудовые издержки. С другой стороны, масштабы самого сектора остаются внушительными (в пределах 18–27% от числа занятых), впрочем, как и его вклад в создание национального дохода. Принимая во внимание главенствующую роль промышленности в системе материального производства, сложно спрогнозировать последующие изменения в структуре занятости. В этом плане куда больше ясности может внести выделение подсекторов сферы услуг, поскольку в текущем виде она является слишком неоднородной и не отражает приоритетные для современной экономики направления деятельности. На сегодняшний день в международной статистике отсутствует информация на этот счёт, однако попытки проведения такого анализа уже предпринимаются [6].
Формы занятости. Распространение различных форм трудовых отношений также часто рассматривается как проявление глобального процесса трансформации занятости. В этом случае ключевое зна- чение отводится изменению привычных практик участия населения в труде, что выражается в постепенном отходе индустриально развитых стран от стандартной занятости, на место которой приходят как хорошо известные, так и новые её формы. Поскольку данная тенденция имеет продолжительную историю, в ходе анализа нами сделан акцент не на динамике, а на абсолютных значениях показателей, доступных для проведения межстрановых сопоставлений, а именно — на уровне неполной, временной и самозанятости.
Когда мы говорим о формах занятости, важно понимать, что масштабы их распространения заметно отличаются в территориальном разрезе (табл. 3). Так, по состоянию на 2021 г., уровень неполной занятости в G7 варьировался от 14% (Франция) до 26% (Япония). При этом за прошедшие 20 лет значения показателя претерпели существенные изменения только в Японии (+9,6 п.п.), Италии (+5,8 п.п.) и Германии (+4,6 п.п.). В остальных странах картина осталась прежней. В этой связи можно констатировать, что работа неполное время не только активно используется в кризисные периоды5, но и является неотъемлемой чертой современности. Вместе с тем опыт России свидетельствует об обратном: подобного рода практики не получили широкого распространения, к ним прибегают порядка 4% занятого населения, что на 3,3 п.п. ниже уровня 2000 года. Отсюда и сильные различия в продолжительности рабочего времени, которые при сравнении максимума (1965 часов в год на одного работника в РФ) и минимума (1382 часа — в Германии) превышают 40%6.
Схожим образом обстоят дела и с временной занятостью, которая отмечается
Таблица 3
Распространение отдельных форм занятости в России и странах G7,%
Table 3
Distribution of certain forms of employment in Russia and the G7 countries,%
|
Страна* |
Неполная занятость |
Временная занятость |
Самозанятость |
||||||
|
2000 г. |
2021 г. |
+/-, п.п. |
2000 г. |
2021 г. |
+/-, п.п. |
2000 г. |
2019 г. |
+/-, п.п. |
|
|
Италия |
11,2 |
17,0 |
+5,8 |
10,1 |
16,4 |
+6,3 |
28,7 |
22,7 |
-6,0 |
|
Великобритания |
23,3 |
21,7 |
-1,6 |
7,0 |
5,6 |
-1,4 |
12,3 |
15,6 |
+3,3 |
|
Канада |
18,1 |
18,4 |
+0,3 |
12,5 |
12,1 |
-0,4 |
16,1 |
15,2 |
-0,9 |
|
Франция |
14,3 |
13,8 |
-0,5 |
15,4 |
15,1 |
-0,3 |
11,4 |
12,1 |
+0,7 |
|
Япония |
16,0 |
25,6 |
+9,6 |
14,5 |
15,0 |
+0,5 |
16,9 |
10,1 |
-6,8 |
|
Германия |
17,6 |
22,2 |
+4,6 |
12,7 |
11,4 |
-1,3 |
10,9 |
9,6 |
-1,3 |
|
Россия |
7,4 |
4,1** |
-3,3 |
5,5 |
7,5* |
+2,0 |
11,0 |
8,1 |
-2,9 |
|
США |
25,9 |
25,3 |
-0,6 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
7,6 |
6,1 |
-1,5 |
*страны ранжированы по предпоследнему столбцу; **2020 год.
Источник: // OECD: [сайт].— URL: ; World Bank Open Data // World Bank [сайт].— URL: (дата обращения: 10.09.2022).
более чем у каждого десятого работника стран «большой семёрки». Исключение составляют Великобритания и США, где значения показателя значительно ниже (6 и 4% соответственно) и напоминают ситуацию в России (7%). За рассматриваемый период частота заключения срочных трудовых договоров в основном сохранилась на прежнем уровне во всех странах, кроме Италии (увеличение на 6,3 п.п.). Такая динамика может объясняться тем, что временная занятость заняла свою нишу в системе трудовых отношений и отвечает интересам определённого сегмента субъектов рынка труда. Стимулы к дальнейшему росту/падению в настоящий момент отсутствуют.
Менее однозначным видится развитие самозанятости, масштабы распространения которой сопоставимы с предыдущими формами занятости, однако имеют тенденцию к снижению. Обозначенный тренд характерен для всех стран G7 кроме Великобритании (+3,3 п.п.) и Франции (+0,7 п.п.). Стремительный рост самозанятости в России произошёл в конце XX в., когда реализация рыночных реформ в стране сопровождалась серьёзными социально-экономическими потрясениями [16]. В результате к 2000 г. значения по- казателя достигли 11%, после чего стабилизировались на уровне 8%. С введением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» можно ожидать дальнейшее увеличение числа самозанятых граждан, чему могут также способствовать цифровые технологии, расширяющие возможности для занятости. Вместе с тем в глобальной перспективе существует немало сдерживающих факторов, обусловленных преимущественно качеством таких рабочих мест.
Институциональная среда. Вопросы трансформации занятости нередко раскрываются посредством анализа динамики институтов рынка труда, поскольку они не только оказывают влияние на трудовые стратегии населения, но и могут служить маркером общественного развития. Для первого случая характерным примером является минимальная заработная плата, которая может рассматриваться в качестве инструмента регулирования занятости. Сами по себе абсолютные значения этого показателя не играют определяющей роли при межстрановом сравнении, поэтому для этих целей используют индекс Кейтца как отношение минимальной заработной платы к медианной. Как правило, в разви- тых странах данное отношение устанавливается на уровне 50-65%7. В то же время, обращаясь к опыту G7, можно увидеть ещё большую вариативность: от 29% в США до 61% во Франции (табл. 4). Благодаря заметному увеличению минимального размера оплаты труда в России в последние годы, индекс Кейтца возрос до 37% (с 9% в 2000 г.).
С точки зрения трансформационных преобразований в занятости населения гораздо более показательным является охват работников профсоюзным членством. Согласно статистике, он имеет устойчивую тенденцию к сокращению как в странах G7 (от -1,8 п.п. в Канаде до -8,3 п.п. в Германии), так и в России, демонстрирующей самое сильное падение
Таблица 4
Отдельные показатели развития институтов рынка труда в России и странах G7
Table 4
Selected indicators of the development of labor ma rket institutions in Russia and the G7 c ountries
|
Страна**** |
Индекс Кейтца,% |
Степень юнионизации работников,% |
||||
|
2000 г. |
2020 г. |
+/-, п.п. |
2000 г. |
2019 г. |
+/-, п.п. |
|
|
Италия |
- |
- |
- |
35,0 |
32,5 |
-2,5 |
|
Канада |
41,4 |
49,0 |
+7,6 |
30,1 |
28,3 |
-1,8 |
|
Россия |
8,8 |
37,4 |
+28,6 |
43,5* |
27,4** |
-16,1 |
|
Великобритания |
40,9 |
57,6 |
+16,7 |
29,8 |
23,4 |
-6,4 |
|
Япония |
32,2 |
45,2 |
+13,0 |
21,5 |
16,8 |
-4,7 |
|
Германия |
- |
44,9 |
- |
24,5 |
16,2 |
-8,3 |
|
США |
35,8 |
29,5 |
-6,3 |
12,9 |
9,8 |
-3,1 |
|
Франция |
61,7 |
61,2 |
-0,5 |
12,6 |
8,9*** |
-3,7 |
****страны ранжированы по предпоследнему столбцу.
*2006 г.; **2017 г.; ***2018 год.
Источники: ILOSTAT.— URL: ; — URL: (дата обращения: 10.09.2022); а также данные Росстата.
(–16,1 п. п.). В результате в 2019 г. уровень юнионизации составил всего 27%, хотя в СССР профсоюзное движение носило массовый характер. В связи с этим можно сделать вывод о сужении возможностей для социального диалога, что вероятнее всего является следствием индивидуализации труда, когда вопросы организации трудового процесса все чаще решаются работниками самостоятельно. Например, на российском рынке труда не только активно развивается занятость в неформальном секторе8, но и широко распространены её теневые практики (неофици- альное трудоустройство, получение зарплаты «в конверте» и другое) [17].
Человеческий капитал. Изменение требований экономики к качественным характеристикам работников косвенным образом может свидетельствовать о глубоких сдвигах в занятости. Такой ракурс имеет много общего с изучением межсекторального перераспределения рабочей силы, однако в данном случае акцент делается на значимости навыков или качеств, используемых в труде. К сожалению, оценить их динамику сложно, в особенности, когда речь идёт о необходимости проведения анализа на страновом уровне. В этом отношении особая роль отводится инициативным социологическим опросам, которые позволяют сделать соответствующие замеры. Для подтверждения этого обратимся к результа- там исследования, проведённого специалистами глобального института McKinsey. Как видно из рис. 1, в ближайшее десятилетие ожидается увеличение спроса на технологические (+55%), высокие когни тивные (+8%), социальные и эмоциональные (+24%) навыки, которые активно применяются и сейчас, хотя и уступают навыкам физической и ручной работы по количеству отработанных часов.

Рис. 1. Прогноз изменения значимости навыков в экономике*
Fig. 1. Forecast of changes in the importance of skills in economy
*агрегированные данные по странам G7 (без Японии и Канады), а также Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии.
Источник: Skill shift: Automation and the future of the workforce.— URL: featured-insights/future-of-work/skiU-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce (дата обращения: 10.09.2022).
Что касается России, то провести прямые параллели с обозначенным выше примером не представляется возможным. Это, в частности, касается и вопросов трудовой мотивации, которые мы оставили за рамками настоящей статьи в силу отсутствия длинных рядов показателей в межстрановом разрезе, и сложности интерпретации самого предмета исследования для получения прогнозных оценок. В случае же с изучением динамики требований рабочих мест к качественным характеристикам населения мы можем воспользоваться материалами отечественных исследований, которые хотя и построены на иной методологии, могут помочь сформировать общее представление об изменении значимости навыков.
Так, в период 2000-2019 гг. индексы9 не- рутинных физических и рутинных физических задач сократились на 16 и 10% соответственно [10, с. 80–81]. В свою очередь позитивный тренд продемонстрировали индексы интерактивных (+20%) и аналитических (+10%) задач. О росте востребованности интеллектуального потенциала также свидетельствуют и данные региональных опросов [7, с. 14–15]. В конечном итоге это приводит к тому, что занятость населения адаптируется под выполнение работ, связанных с решением когнитивных и технологических задач, а также межличностным взаимодействием. Одним из проявлений такой трансформации может служить развитие удалённой занятости, потенциал которой особенно сильно проявил себя в период пандемии COVID-19.
Заключение
Проведённый анализ показал многогранность глобального процесса трансформации занятости, который может быть представлен в разных контекстах: от межсекторального перераспределения рабочей силы до особенностей взаимодействия работников с институциональной средой. При этом если в одном случае изменения могут практически отсутствовать, то в другом — приобретать ярко выраженный характер. В этой связи важно не только принимать во внимание вариативность проявлений изучаемого феномена, но и продолжить поиск новых возможностей для его исследования.
Как показали межстрановые сопоставления, трансформация занятости в РФ имеет много общего с западным миром, но несколько «запаздывает» по ряду направлений. Так, доля сферы услуг в структуре занятого населения ниже, чем в странах «большой семёрки», хотя и демонстрирует наибольший рост как в абсолютном, так и в относительном выражении. Схожая ситуация наблюдается и в первичном секторе экономики, который со временем аккумулирует все меньшее число работников. В этой связи в ближайшей перспективе можно ожидать сохранение паритета между отраслями, либо последующее сокращение занятых в промышленности. Нестандартные формы занятости (временная, неполная и самозанятость) также получили своё развитие, как и за рубежом, однако масштабы их распространения скромны и варьируются от 4 до 8%, в результате чего средняя продолжительность отработанного времени в стране находится на относительно высоком уровне. Иным образом обстоят дела со степенью юнионизации работников, а также изменением значимости тех или иных навыков в трудовой деятельности (несмотря на методо- логические сложности), где Россия мало чем отличается от «группы семи». С одной стороны, занятость населения, стремясь к индивидуализации, предоставляет всё меньше возможностей для социального диалога, с другой — адаптируется под выполнение новых задач, которые могут быть реализованы, например, посредством цифровых платформ.
Учитывая нестабильность геополитической обстановки и общую тенденцию деглобализации, процесс трансформации занятости в России может принимать более специфический характер, реагируя на вызовы внешней среды. Рост неопределённости и тренды на импортозаме-щение, реиндустриализацию, диверсификацию каналов поставок вероятно затронут и сферу занятости, в частности, её отраслевую структуру, масштабы трудовой мобильности, предложение труда. Однако, представляется, что это не будет препятствовать дальнейшему становлению постиндустриальной парадигмы занятости, которая уже сейчас находит своё широкое отражение в условиях российской действительности. В этом плане открытым остаётся вопрос относительно действий органов власти, чья позиция по данному вопросу может вносить коррективы в развитие системы социальнотрудовых отношений в стране. Представляется, что основное внимание должно быть направлено на обеспечение оптимального баланса между гибкостью занятости и достойным трудом, что потребует усилий не только государства как гаранта социальной стабильности, но и других субъектов рынка труда (прежде всего, профсоюзов). В противном случае реакция на возможные негативные проявления трансформационного процесса, среди которых прекаризация занятости, поляризация рабочих мест и другое может быть слишком запоздалой.
Список литературы Трансформация занятости в России в ракурсе межстрановых сравнений
- Попов, А.В. Концептуальные основы изучения процесса трансформации занятости / А. В. Попов // Теоретическая экономика. — 2019.— № 6(54). — С. 18-26. EDN: ROGVDV
- Одегов, Ю.Г. Трансформация труда: 6-й технологический уклад, цифровая экономика и тренды изменения занятости / Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова // Уровень жизни населения регионов России. — 2017.— № 4(206). — С. 19-25. EDN: YTIJLF
- Узякова, Е. С. Ограничения по трудовым ресурсам и возможности роста в экономике / Е. С. Узякова // Народонаселение.— 2017.—Т. 20.— № 1. — С. 22-34. EDN: YRJHHZ
- Sigelman, M. Shifting Skills, Moving Targets, and Remaking the Workforce / M. Sigelman, B. Taska, L. O'Kane [и др.]. — Boston: BCG, 2022.— 44 р.
- Edgell, S. The Sociology of Work: Continuity and Change in Paid and Unpaid Work / S. Edgel.— London: SAGE Publications Ltd, 2012.— 264 p.
- D'Agostino, A. Sectoral Explanations of Employment in Europe: the Role of Services / A. D'Agostino, R. Serafini, M. Ward. — Bonn: IZA, 2006.— 54 p. DOI: 10.2139/ssrn.900396
- Попов, А.В. Прекаризация занятости: угрозы дестабилизации положения работников для развития России / А. В. Попов, Т. С. Соловьева.—Вологда: ВолНЦ РАН, 2021.— 131 с. EDN: XIHJUV
- Frey, C. B. The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? / C. B. Frey, M. A. Osborne // Technological Forecasting & Social Change.— 2017.—Vol. 114. — Р. 254-280. DOI: 10.1016/j.techfore.2016.08.019
- Susskind, D. A World without Work: Technology, Automation and How We Should Respond / D. Susskind. — New York: Metropolitan Books, 2020.— 305 p.
- Гимпельсон, В.Е. Рутинность и риски автоматизации на российском рынке труда / В. Е. Гим-пельсон, Р. И. Капелюшников // Вопросы экономики.— 2022. — № 8. — С. 68-94. DOI: 10.32609/8736-2022-8-68-94; EDN: HSIVVK
- Бобков, В.Н. Неустойчивая занятость в Российской Федерации: теория и методология выявления, оценивание и вектор сокращения / В. Н. Бобков, В. Г. Квачев, И. Б. Колмаков [и др.].— Москва: КНОРУС, 2019.— 342 с. EDN: VWFWIO
- Логинов, Д.М. Дистанционная занятость в период коронакризиса: масштабы распространения и результативность внедрения / Д. М. Логинов, М. В. Лопатина // Народонаселение.— 2021.—Т. 24.— № 4.— С. 107-121. DOI: 10.19181/population.2021.24.4.9; EDN: IIRGXC
- Беляев, В.И. Занятость, безработица, рынок труда в институциональной структуре социально-трудовых отношений / В. И. Беляев, О. В. Кузнецова // Экономика. Профессия. Бизнес.— 2021.— № 1.— С. 21-29. DOI: 10.14258/epb202103; EDN: JJZRTT
- Лашук, И.В. Трансформация ценностей белорусского общества / И. В. Лашук // Вестник Белорусского государственного экономического университета.— 2022.— № 1(150). — С. 103-112. EDN: DDOABU
- Шипилов, А.В. Труд и отношение к нему: до и после модерна / А. В. Шипилов // Общественные науки и современность.— 2021.— № 6. — С. 61-72. DOI: 10.31857/S086904990017880-0; EDN: XVMJIE
- Попов, А. В. Особенности и закономерности трансформации занятости в России и странах мира / А. В. Попов // Human Progress.— 2019.—Т. 5.— № 7.—URL: http://progresshuman.com/ images/2019/Tom5_7/Popov.pdf (дата обращения: 10.09.2022). DOI: 10.34709/IM.157.10; EDN: EJAHOC
- Покида, А. Динамика теневой занятости российского населения / А. Покида, Н. Зыбуновская // Экономическая политика.— 2021.—Т. 16.— № 2. — С. 60-87. DOI: 10.18288/1994-5124-20212-60-87; EDN: RIGILL