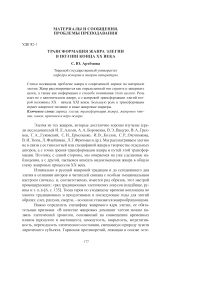Трансформация жанра элегии в поэзии конца XX века
Автор: Артмова Светлана Юрьевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 1, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме жанра в современной лирике на материале элегии. Жанр рассматривается как определенный тип строить и завершать целое, а также как информация о способе понимания этого целого. Речь идет не о каноническом жанре, а о жанровой трансформации элегий второй половины XX - начала XXI веков. Большую роль в трансформации играет жанровое заглавие и иные жанровые маркеры.
Лирика, элегия, трансформация жанра, жанровое чтение, канон, признаки и ядро жанра
Короткий адрес: https://sciup.org/146281557
IDR: 146281557 | УДК: 82-1
Текст научной статьи Трансформация жанра элегии в поэзии конца XX века
Элегия из тех жанров, которые достаточно хорошо изучены (среди исследователей И. Л. Альми, А. А. Боровская, В. Э. Вацуро, В. А. Грех-нев, Г. А. Гуковский, С. И. Ермоленко, И. В. Козлов, С. Р. Охотникова, В. И. Тюпа, Л. Флейшман, Л. Г. Фризман и др.). Мы рассматриваем элегию не в связи с ее типологией или спецификой жанра в творчестве отдельных авторов, а с точки зрения трансформации жанра и путей этой трансформации. Поэтому, с одной стороны, мы опираемся на уже сделанные наблюдения, а с другой, пытаемся вписать видоизменения жанра в общую схему жанровых процессов ХХ века.
Изначально в русской жанровой традиции и до сегодняшнего дня элегия в сознании авторов и читателей связана с особым эмоциональным настроем (печаль), и, соответственно, имеется ряд образов, этот настрой провоцирующих: «ряд традиционных элегических локусов (кладбище, руины и т. п.)»[6, с. 135]. Тоска героя по уходящему времени воплощена во многих традиционных и продуктивных в последующие годы для элегий образах: слез, разлуки, смерти, – но они не становятся жанрообразующими.
Важно определить специфику жанрового ядра элегии, ее обязательные признаки. «В качестве жанровых доминант элегии можно назвать элегический хронотоп, основанный на совмещении временных планов (прошлого и настоящего), замкнутость, закрытость, медитатив-ность, переходность элегического состояния, смешанную природу чувств лирического субъекта. Гармония противоречий, лежащая в основе эсте- тической концепции жанра, реализуется в субъектной организации произведения: носителем речи является условное элегическое “я”, которое характеризует отчужденность от лирического настоящего, и некоторая ироничность. Традиционализм жанровой формы элегии выражается в известной формульности (образы “забвенья” и “прекрасного света”, тумана и кладбища, “бледной луны” и “уходящего солнца”, вечера и заката) и устойчивости мотивного комплекса (мотивы одиночества, странничества, изгнания, бренности человеческого существования, воспоминания об ушедших годах), что обусловлено дистанцированностью субъекта от непосредственного переживания, определенной условностью и театрали-зованностью рефлексии» [1, с. 11].
Но при всем том образы эти не становятся обязательными жанрообразующими признаками, а лишь указывают на специфику лирического субъекта – странника, одинокого и бесприютного скитальца, тоскующего по прошлому и утраченному, осознающему не-идеальность жизни. В этом смысле элегия соотносится с идиллией: «Идиллию следует признать одним из “вторичных” истоков элегического жанра, поскольку элегии Нового времени часто строятся на отталкивании от идиллического мировосприятия» [Там же, с. 36].
Уже в начале ХХ века элегия становится своего рода текстом-преодолением элегической тоски. На место канона приходит «внутренняя мера жанра», которая и определяет облик элегии второй половины ХХ века. Произвольность формы элегии и её длины[8], отсутствие структурной регламентации порождает и содержательно-тематические вариации, например, темой элегий становится разнообразие и непредсказуемость эмоциональных состояний, специфическое отношение к прошлому (не обязательно печаль по утраченному) и даже поиск элегической тоски как таковой (или ирония по поводу ее невозможности).
Интересна идея о «жанровых стереотипах» и их нарушении, которая восходит еще к концепции формалистов о развитии литературы как преодолении автоматизма: «Применительно к стихотворению В. Маяковского можно говорить о новой элегии, разрушающей жанровые стереотипы. Поэтическая дистанция, “отстранение” от жанровых канонов (и “остранение”) проявляются, прежде всего, в возведении противоречивости элегического переживания, выраженного в понятии “светлая печаль”, в степень оксюморона: на стилистическом уровне неслучайно обращение к различным речевым регистрам (“…кто-то называет эти плевочки / жемчужиной?”). Автор ломает привычные представления о жанре, семантические, сюжетно-композиционные, интонационно-ритмические, его образ трансформируется в русле экспрессионистской поэтики» [1, с. 16]. Идея о разрушении стереотипов жанра в современной поэзии перекликается с концепцией Ю.Н. Тынянова о развитии жанра как «лома- ной линии», но в то же время позволяет выделить в этой линии стратегии преобразования жанра с течением времени.
Темой элегии становится мысль о неминуемо уходящем времени, которое рано или поздно оборвется [5] – «философия времени, выражаемая в элегии этого периода, представляет собой тот максимум содержания, который можно выжать из ее материальной организации» [3, с. 22–23].
Ярче всего замена канона элегии внутренней мерой жанра видна в текстах шутливых и пародийных (о пародии как продолжении традиции писали русские формалисты О. М. Фрейденберг и Ю. Н. Тынянов). Ироническая элегия частотна в конце ХХ – начале XXI веков, как, впрочем, и другие жанры лирики, которые в этот период обыгрываются в ироническом ключе.
Ирония при работе с элегией видна в стихотворении О. Юрьева «Элегия с эпиграфом» (1987)[7, с. 196]:
От вас я не хочу прощений и проклятий,
– Всего страшней, – сошедший с рубежа, Скажу я к ужасу своих смиренных братий, – Что воздух чуж, а не земля чужа.
Когда вернулся я с предутренной прогулки,
Уж разобрали ночь рабочие небес: Сияли вытертые выемки и втулки, И были стены тьмы запрятаны за лес.
А кто ко мне в окно, приплюснувшись, глядится
Блестящей тысячью своих губатых глаз?
Чьи это кожаные сморщенные лица
В летательных шарах, мерцающих, как газ, Я не желаю знать.
Раз нанялся – к работе.
Названий и расценок ведать не хочу.
Когда настанет срок – мы вспомним о расчете, Тогда и я – что должен – получу.
Здесь жизнь предстает через метафору труда: «рабочие небес» разбирают ночь, вытирают «выемки и втулки», а герой, «нанятый к работе», не желает оценивать данную ему жизнь, предпочитая расчет потом, «когда настанет срок». Такая нарочито механистическая картинка противоречит заглавию и самому канону элегии, на первый план выходит показательное смирение, но важно при этом, что стихотворение с таким содержанием называется автором именно «элегией». Канон элегии при этом не соблюден, вытесняется другими жанровыми принципами.
Элегия здесь уступает место «элегическому модусу» вообще, герой добровольно избирает печаль, потому что выбора у него нет. Либо печаль и созерцание – либо небытие. В финале элегии лирический субъект утверждает мысль о случайности жизни вообще, но именно случайные подробности, выхваченные из общей круговерти бытия, помогают нащупать грань между мелочью жизни и «нездешним», между суетой и истиной. И тоскует герой вовсе не из-за бесконечности пути, а из-за невозможности достижения идеала. Тоска по идеалу, составляющая основу элегии, никуда не делась, но признаки, ей сопутствующие, видоизменяются: герой не может высказать тоску и заменяет эту мысль перечнем, «названиями» и «расценками», реестром бытия.
Элегия как «повод» трактуется и в стихотворении Ирины Машин-ской «Трамвайная элегия» [4]:
Пальто забрызгала, но приступом трамвай взяла. Протискиваюсь в середину, как требует невидимый водитель (я чувствую, как близко микрофон к губам она подносит). В середине салона – так же тесно, но тепло (а вот и поручень!) и сухо. Повисаю, в тепле, довольстве свысока смотрю на сумрак, дождь в окошко проливное.
У остановки странное названье, всегда прислушиваюсь: Стеклоагрегат.
Ни стекол, никакого агрегата: пустырь, забор, какая-то листва – да марсианский лом блестит на глине, округе надоевший натюрморт.
Все это жизнь моя, не более. Все это лишь повод провести нас на мякине, пока мы тут въезжаем в поворот.
Пушкинские «липы, будки, бабы» в ХХ веке имеют большой успех и варьируются в реестровых стихах многих поэтов. У Ирины Машинской реестр довольно уныл («сумрак, дождь в окошке»). Но это – единственная жизнь лирической героини («жизнь моя, не более»), и тоска неразрывно связана с осознанием того, что другой не будет, что поворот трамвая и поворот судьбы суть одно и то же.
Элегия преодолевает себя с помощью элегических принципов: временное и вечное могут быть противопоставлены, а могут быть осознаны как части единого целого. Вероятно, поэтому появляются и элегии с политическим «привкусом», точнее, ирония в элегиях может создаваться с помощью политических подтекстов, как, например, в стихотворении современной поэтессы Анны Горенко «Элегия» [2]: «Разврат чудесных папирос / дымок мой знак ответ / твой знак вопрос / Малютка Ленин – у того донос. <…> всё детство я гляжу на него / в зеркало / глаз не могу отвести. // Но где мое детство / но где этот дом / с зеркалом / где мы вдвоем / пряди огня за твоей головой / Где же мой шарф голубой?» Мотив сладости прошлого и его утраты («где этот дом», «где мое детство») дополняется другим мотивом, который сам по себе означает разрушение традиционного элегического канона, – мотивом преступления («донос», «гашиш», «разврат», «расстрелянный дом» и пр.). Тоска по прошлому оказывается выморочной, героиня стихотворения показывает не сладкое прошлое, а то, что лишь казалось сладким, и тосковать по этому прошлому уже невозможно.
Таким образом, современная элегия может быть вполне канонической, а может апеллировать лишь к памяти жанра, как в приведенных текстах. Внутренняя мера жанра предполагает, что несовершенство мира как содержательная характеристика «ядра» элегии становится поводом для бесчисленных отступлений и вариаций. В этом случае заявленный в заглавиях жанр элегии становится метажанром: либо переходит в иронию и самоиронию, либо отрицает саму возможность элегического мироощущения при наличии элегического дискурса.
Об авторе:
Tver State University the Department of History and Theory of Literature
Список литературы Трансформация жанра элегии в поэзии конца XX века
- Боровская А. А. Жанровые трансформации в русской поэзии первой трети XX века: автореф. дис.... докт. филол. и.: 10.01.01 / А. А. Боровская; Астраханский гос. ун-т. Астрахань, 2009. 46 с.
- Горенко А. Праздник неспелого хлеба: Стихи девяностых годов. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 112 с. [Электронный ресурс] URL: http://www.vavilon. ru/texts/gorenkol.html#l. (Дата обращения: 20.10.2019.)
- Марков А. В. Воображаемое и границы художественности в европейской литературе: дис.... докт. филол. н.: 10.011.08 / А.В. Марков; Рос. гос. гуманитар. ун-т. М., 2014. 424 с.
- Машинская И. Стихотворения. М.: Изд-е Е.Пахомовой, 2001. [Электронный ресурс| URL: http://lib.ru/NEWPROZA/MASHINSKAYA/stihotworcniya.txt. (Дата обращения: 20.10.2019.)
- Москвичева Г. В. Жанрово-композиционные особенности русской элегии XVIII - первых десятилетий XIX века // Вопросы сюжета и композиции: Межвуз. сб. Горький, 1985. С. 33-50.
- Тюпа В.И. Дискурс / Жанр. М.: Intrada, 2013. 211 с.
- Юрьев О. Избранные стихи и хоры. М.: Новое лит. обозрение, 2004. 220 с.
- Keith А. М. Roman Elegy and Ancient Rhetorical Theory // Mnemosyne. Fourth Series. Vol. 52. No. 1. Pp. 41-62.