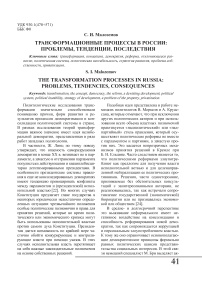Трансформационные процессы в России: проблемы, тенденции, последствия
Автор: Малоземов Сергей Иванович
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 4 (20), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются, главным образом, западные концепции трансформации, которые объясняют логику процесса трансформации в России, ее ключевые проблемы, тенденции и последствия.
Трансформация, концепция, демократия, реформа, отклоняющееся развитие, политическая система, политическая нестабильность, стратегия развития, проблема собственности, приватизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14720720
IDR: 14720720 | УДК: 930.1(470+571)
Текст научной статьи Трансформационные процессы в России: проблемы, тенденции, последствия
Политологические исследования трансформации значительно способствовали пониманию причин, форм развития и результатов процессов демократизации и консолидации политической системы в стране. В рамках исследования теорий трансформации важное значение имеет идея нелиберальной демократии, представленная в ряде работ западных политологов.
В частности, Ж. Линц по этому поводу утверждает, что опасность саморазрушения демократии в конце XX в. возникает не в парламенте, а зачастую в отстранении парламента популистски действующими и квазиплебисци-тарно легитимированными президентами. В особенности президентские системы правления в еще не консолидированных демократиях имеют тенденцию провоцировать конфликты между парламентом и (президентской) исполнительной властью [22]. Во многих случаях Конституция предлагает главе государства в некоторых юридически недостаточно определенных ситуациях чрезвычайного положения особые политические полномочия и права для принятия решений, которые во время политического или экономического кризиса могут быть использованы исполнительной властью против самого духа Конституции. Президентам дается возможность по крайней мере частично обойти конкурирующие и контролирующие власти при помощи указов. В этих случаях исполнительная власть перетягивает на себя важные законодательные полномочия на основе собственных решений.
Подобная идея представлена в работе немецких политологов В. Меркеля и А. Круассана, которые отмечают, что при исключении других политических акторов и при использовании всего объема властных полномочий практикуется «надполитический» или «надпартийный» стиль правления, который осуществляет политические реформы не вместе с парламентом и партиями, а зачастую против них. Это касается непрозрачных механизмов принятия решений в Кремле при Б. Н. Ельцине. Часто следствием является то, что политическими реформами злоупотребляют как предлогом для получения власти исполнительной ветвью и для целенаправленной нейтрализации ее политических противников. Решения, часто односторонние, принимаемые без обстоятельных консультаций с заинтересованными акторами, не реализовывались, так как встречали сопротивление государственной (экономической) бюрократии или не признавались экономикой или обществом [24].
В средне- и долгосрочной перспективе это выживание неформального имеет негативное воздействие на консолидацию и способность реформирования новой демократии, так как сопровождается коррупцией и персональным злоупотреблением властью. К тому же оно ограничивает основополагающие демократические принципы формально равных политических шансов представительства социальных интересов. В этой связи немецкий специалист М. Бри выделяет ак- торы, которые могут обладать внеправовыми ресурсами, необходимыми для стабилизации неформальных устройств и сетей, получающими привилегированный доступ к политической власти и формальным институтам [14]. Этими акторами, как правило, выступает старая номенклатура.
По мнению немецкого политолога Г. Лембруха, в условиях высокой неопределенности и сложных ситуаций акторы используют, во-первых, возникший еще в советский период «репертуар характерных толкований проблем и стратегий их решения» [21]. Во-вторых, в качестве эксперимента они пытаются использовать как российские досоветские, так и западные институциональные модели.
В этой связи привлекательна идея отклоняющегося развития России одного из известнейших немецких специалистов по экономике России, профессора Х. Хёманна. По его мнению, в Центральной и Восточной Европе в противоположность России намного более сильно выражена политическая и экономическая культура, благоприятствующая трансформации. Страны Центральной и Восточной Европы имеют правительства, которые в гораздо большей степени обладают авторитетом и компетенцией, желанием и способностями осуществить трансформацию. Коммунистическое наследие здесь оказалось несущественным, внешнеполитическое и экономическое окружение – благоприятным, прежде всего из-за возрастающей кооперации с Западом. Напротив, в России наблюдаются тенденции к монополистической и интервенционистской рыночной экономике с возрастающими чертами корпоратизма, незначительной динамикой роста, эффективностью и структурными изменениями [19, S. 193].
Одним из важнейших обстоятельств, которые обусловливают становление политической системы в России, является продолжительная слабость государства как регулятивной власти. Относительная реализация монополии на насилие, существование бюрократии в веберовском смысле, функциональная налоговая система, которая делает возможной благоприятную для рынка связь экономики и государства и гарантирует пра- вовое оформление важнейших форм социального взаимодействия – ни одного из этих «само собой разумеющихся» элементов, кроме их зачатков, отсутствовали в постсоветской России.
Центральная проблема трансформации в России состоит в том, что политические реформы 1990-х гг. привели к социальноэкономическому краху многих сфер экономики, сильной социальной поляризации и высокому уровню инфляции. Поэтому возможности действий государства в важнейших сферах были крайне ограниченны.
В России обращала на себя внимание политическая нестабильность, постоянная смена институтов и стратегий акторов как специфических черт трансформации, т. е. как атрибутов перехода. Понятие трансформации, по определению Р. Райсига, подразумевает управляемый различными средствами процесс перехода старых структур, трудовых и жизненных миров и систем в новые [26, S. 15]. В этой связи важную роль должны представлять социальные акторы, заинтересованные в дальнейшем целенаправленном изменении, создании институциональных условий, которые делают такую трансформацию неизбежной.
На основе критериев акторов (элиты и массы) и их стратегий (компромиссная и силовая) американские исследователи Т. Карл и Ф. Шмиттер различают четыре типовых варианта перехода: реформа, пакт, революция и навязанный переход [4]. По их мнению, консенсусный пакт элит, а также авторитарный, навязанный сверху переход представляют из себя такие модели трансформации, которые быстрее всего приводят к стабильным демократиям. В своем сравнительном анализе Т. Карл и Ф. Шмиттер приходят к выводу о том, что «наиболее проблематичными оказывались ситуации, в которых сочетались элементы нескольких моделей перехода, когда не могло возникнуть никакой побеждающей доминирующей стратегии. В этой связи американский политолог А. Пшеворский обосновывает тезис об относительно низкой зависимости успеха трансформации от процесса перехода [8, с. 250–258]. В пользу этого тезиса свидетельствует прежде всего проблема долго со- храняющейся нестабильности и латентная опасность ее перерастания в долгосрочные антагонистические конфликты. Он описывает три основных стратегии реформ в России: радикальную, постепенную и статус-кво. Стратегия радикальных изменений, или стратегия «горькой пилюли», основана на убеждении, что все неприятное на вкус должно быть полезно. В условиях стратегии радикальных изменений траектория потребления должна быстро и значительно падать и быстро восстанавливаться. При стратегии постепенных последовательных изменений потребление снижается медленно, но не уменьшается настолько, насколько уменьшается при радикальной стратегии, и возвращается к начальному уровню позже. При стратегии статус-кво потребление остается неизменным.
Выбор стратегии зависит от взаимоотношения, во-первых, технократов, занимающих официальные посты и заинтересованных в скорейшем успехе реформ, во-вторых, политиков, нацеленных на получение поддержки и переизбрание и, в-третьих, населения, заинтересованного в неизменном уровне потребления.
Население поддерживает именно ту программу, будучи уверенным в успехе определенной стратегии, оценивая уровень потребления, которого достигнут спустя длительное время, почти так же высоко, как и наличный уровень потребления. Если они недостаточно уверены в стратегии, то придают малую ценность отдаленным результатам и сосредоточивают внимание на ближайших. В любом случае они выбирают стратегию, которую ценят выше на основе предполагаемого уровня потребления и уверенности в будущем при данной стратегии.
Технократы определяют успех реформ уровнем стабильности, платежеспособности и эффективности экономики. Как правило, они не слишком озабочены социальными издержками. Основная стратегия технократов – как можно более быстрый переход к рыночной экономике, так как постепенный переход, обеспечивая меньшую социальную напряженность, опасен возможностью наступления «усталости от реформ» ввиду отсутствия видимых перемен, консолидацией сил противников реформ.
Избранные политики осознают и неизбежность реформ, и возможное неприятие их населением. Они озабочены растущей бедностью, социальным миром и народной поддержкой. Они готовы к радикальным стратегиям, если верят заверениям технократов в том, что кривая развития экономики пойдет вверх до начала следующих выборов.
В общих чертах схема и мотивы выбора радикальной стратегии, предложенные А. Пшеворским, соответствуют развитию реформ, инициированных Б. Н. Ельциным, опиравшимся на первоначальную высокую поддержку значительной части политически активного населения и давшему правительству Е. Т. Гайдара большие полномочия и возможности по быстрой радикальной либерализации экономики.
В свою очередь Т. Карл каузально связала определенные варианты трансформации с вероятностью возникновения определенных типов демократии, которые впоследствии могут сами изменяться. Навязанный переход приводит к консервативной демократии с фиктивной или ограниченной многопартийностью; пакт – к корпоратистским формам демократии и сговору партий; реформистский вариант – к конкурентной многопартийной системе; революция – к авторитарному доминированию одной партии [20].
До сих пор использовались две различные сменяющие друг друга стратегии элит: стратегии односторонней или консенсусной реформы. При этом частичная зависимость силы элит от «масс» постепенно оказывается одной из важнейших гарантий долгосрочной стабилизации базовых демократических правил, особенно выборов.
Крушение режима и его трансформация создают обстоятельства высокой неопределенности. Эта неопределенность и связанная с ней неуверенность принципиально могут быть ограничены двумя условиями. Во-первых, акторы трансформации – либо в одностороннем порядке, либо через пакт, либо наделяя полномочиями третьего актора – устанавливают правила, которые определяют нормативные рамки трансформации, к которым относятся правила доступа к участию политических организаций, потенциальные ограничения вмешательства власти в социально-экономические и политические интересы одних акторов или наделение привилегиями других. При ориентации акторов на сохранение правил такого рода трансформация характеризуется как осуществляющаяся «по правилам». В противоположном случае можно говорить о «трансформации без правил».
Во-вторых, неопределенность может быть ограничена конфигурацией акторов, односторонне доминирующих в определенных фазах трансформации. Примерами этого являются авторитарные президентские системы и партии-гегемоны. Другой вариант возможен, если в процессе переговоров автономные, но независимые акторы принимают совместные решения в интересах коллективного блага.
Процессы смены режима в России характеризуются тем, что здесь сосуществуют формы авторитативной, консенсусной и спонтанной координации. С их помощью акторы пытаются использовать в собственных интересах во многом аномичные условия смены системы, усилить, взять под контроль или даже преодолеть их и внедрить более долгосрочные правила.
В этой связи важной представляется мысль западных политологов Ф. Шмитте-ра и Й. Шуляйна о том, что политические и экономические силы не способны или не заинтересованы в реализации ситуации стабилизирующего пакта или одностороннего авторитаризма в условиях слабости правового регулирования, отсутствия относительно единых форм торга и принятия решений, охватывающих различные секторы и общую территорию [27–28].
Очевидно, что трансформация «без правил» приводит к тому, что установленные государством в процессе реформ регулирующие рамки игнорируются во многих сферах – и государственными, и негосударственными акторами. Поэтому они действуют в условиях, при которых не существует обязательных, защищенных государственной властью легальных институтов, стабилизирующих ожидания по отношению к действиям других акторов. Это усиливает всеобщую неопределенность. Отсутствующая стабилизация институциональных рамок действий провоцирует атомизацию акторов и хаотиче- ские способы социального взаимодействия. Этому противодействуют, однако, эндогенное возникновение договорных форм кооперации, с одной стороны, и укрепление межличностных сетей – с другой.
Ставка на технократические методы реформ была очевидна, но при этом были проигнорированы интересы и воля большей части населения страны. Дж. Бьюкенен, лауреат Нобелевской премии по экономике, указывает на то, что теоретики, убежденные в своем предназначении социальных инженеров, советуют либо проводить, либо не проводить реформы, не принимая во внимание роль индивидуальных предпочтений в политическом процессе, которая на деле настолько велика, что реформы у многих вызывают сопротивление [1].
Действительно, технократическая стратегия действий правительства Е. Т. Гайдара быстро привела к отторжению проводимых реформ основной массой населения страны, ибо показала крайнюю неадекватность и ошибочность предпринимаемых технократическим правительством мер, на что, кстати, указывалось в многочисленных исследованиях авторитетных западных экономистов.
Для понимания логики процесса трансформации в России имеет важное значение идея американских политологов Дж. Марча и Дж. Олсена соотношения «логики стратегического действия» над «логикой действия по правилам», собственных интересов над правилами [23]. Длившаяся с советского периода эффективная блокада любых серьезных попыток формирования оппозиции, а также отсутствие длительного публичного и организованного дискурса реформ внутри КПСС являются двумя причинами крайней слабости демократического движения в СCCР в целом и в России в частности. Политические изменения казались возможными всегда лишь «сверху». Это сказалось на процессе трансформации. На протяжении всего периода перестройки и по сей день демократическое движение было и остается подчиненным партнером в борьбе, которая велась и ведется, главным образом, между группировками политической и экономической номенклатуры.
Так, применительно к России, по словам Я. Корнаи, проблема состояла не в том, что правительство Е. Т. Гайдара путем принятия радикальных мер стремилось остановить сползание страны в пучину гиперинфляции, а в том, что не было создано институциональной системы для поддержания и укрепления макроэкономического равновесия ни до этого момента, ни после. Институциональные реформы можно проводить лишь шаг за шагом, сериями больших и малых блоков. Кроме того, скорость преобразований не является главным мерилом успеха и указывает на общность массовой приватизации и массовой коллективизации по признаку подчинения реформы собственности политическим идеям, страха перед постепенными переменами, нетерпимости и одержимости быстротой преобразований. Анализируя основные направления трансформации, он выделял две стратегии реформ: «стратегию органичного развития» и «стратегию ускоренной приватизации», отмечая при этом, что «стратегия органичного развития» верна, тогда как «стратегия ускоренной приватизации» в лучшем случае была менее эффективна, в худшем – нанесла явный ущерб.
Критикуя радикальную стратегию быстрого построения капитализма в России на базе радикального решения проблемы собственности, Я. Корнаи отмечает, что капиталистические отношения собственности формируют базис, на котором возникает капиталистическая надстройка: институты, политические организации и идеология, требующиеся для того, чтобы капиталистический базис мог функционировать. Если радикальная реформа собственности предваряет трансформацию политических институтов, то она будет протекать очень медленно и болезненно, с высокими социальными издержками. Им подвергается сомнению такая последовательность трансформации: вначале быстрая и глубокая реформа отношений собственности, затем трансформация дополнительных институтов, так как передача прав собственности может блокироваться группами интересов, обладающими огромной властью, как в России. Нужно учитывать и возникающие в период перераспределения высокие социальные издержки [5–6].
Наиболее печальным примером провала «стратегии ускоренной приватизации», по мнению Дж. Стиглица, служит именно Россия, где все ее характеристики проявились в крайней форме: навязанная стране ваучерная приватизация вкупе с массовыми манипуляциями при передаче собственности в руки менеджеров и приближенных чиновников. В этих условиях произошла не имеющая прецедентов в истории реформа собственности [2; 11; 13; 30].
Действительно, в условиях трансформации государства, пока государственные акторы переводили многие государственные ресурсы в частные руки и для сохранения своих постах, обеспечивали основные функции государства зачастую внеправовы-ми способами, негосударственные акторы вынуждены считаться с этим перераспределением и компенсировали растущую из-за этого нестабильность в более или менее криминальных формах. В этих условиях, по справедливому замечанию Г. О’ Доннелла, само значение термина «коррупция» размывается [25, p. 1359].
Таким образом, характеризуя «загадки» экономического развития в трансформационных странах, в частности в России, по прошествии первых лет экономической трансформации в связи с поиском ответов на вопросы о преодолении социальных издержек трансформации, о роли структурной политики, а также с усиливающимся осознанием того, что роль государства и социальных факторов явно недооценивалась, обращает на себя внимание очевидная ограниченность ортодоксальных подходов.
Говоря о долгосрочной перспективе развития трансформационной экономики России, целый ряд авторов, теоретических направлений и школ по-разному подходят к данному вопросу.
Например, один из подходов исследует переход советской экономики к рыночной в рамках базисной модели неоклассической теории роста. Х. Брюкер и В. Шреттль из Немецкого института экономических исследований в Берлине обсуждают в рамках этого теоретического подхода прежде всего вопрос о том, было ли характерно для плановых экономик к началу экономической трансформации чрезмерное инвестирование. Они убедительно доказывают, как предложен- ные в теории роста механизмы накопления капиталов тормозили экономический рост и сокращали инвестиционную активность. К тому же они исходят из того, что вследствие экономической трансформации, с одной стороны, обесценивается основной капитал, а с другой – расширяются возможности производства. Так, с помощью этой модели они подводят к вопросу: почему предложенный в неоклассической теории роста механизм адаптации не привел к инвестиционному буму? Они объясняют это попаданием в «ловушку бедности», так как необходимый для производства уровень потребления превышал потенциал национальных экономик [15–16]. При этом предполагался определенный «минимальный уровень» потребления, в случае недостижения которого люди начинают уклоняться от труда, а в случае его достижения это приводит к вытеснению инвестиций. Так или иначе над экономикой нависает угроза экономической стагнации или даже падения уровня производства. Однако эта идея не объясняет, почему ситуация возникла именно в России – в относительно хорошо благоустроенной стране с отклоняющейся моделью развития.
Историки придерживаются идеи догоняющей модернизации, которую следует рассматривать в зависимости от специфической предыстории. Для успешной догоняющей модернизации необходим целый ряд социально-культурных предпосылок. Рыночным реформам в особенности требуется существование «гражданской» системы ценностей и норм. В любом случае ее не возникло в «православно-византийских обществах» бывшей царской империи, а потому их трансформация сводится к установлению раннекапиталистических систем, для которых еще предстоит найти адекватное название [32].
Если исходить из тезиса о том, что трансформация означает в первую очередь, установление новых правил, институтов [31, p. 14], то, по меньшей мере в «долгосрочной перспективе» эти институты должны отражать ценности, установки и нормы общества. Так, Г. Симон описал следующие ментальные установки: патерналистское отношение государства к гражданам, т. е. автократия и этатизм; специфические черты хозяйствования и экономической этики на основе привязанности сообщества к государству, т. е. отсутствие доверия к рынку и частной собственности на средства производства; поведение иерархического эгалитаризма, т. е. высокая готовность индивида к интеграции и подчинению вкупе с требованием равенства; имперское сознание; «менталитет исключительности» [29]. При этом примечательно, что в России преобладала доля негативно настроенных по отношению к рыночной экономике по причине медленного продвижения реформ, где первые признаки слабого экономического роста обозначились лишь к концу 1990-х гг. Очевидно, что изменению институтов, каким оно требуется при экономической трансформации, должно соответствовать также изменение этих ценностей, установок и норм.
В качестве ключевой проблемы переходного общества, одновременно оказывающей важнейшие воздействие на его формирование, выступает приватизация. Именно она была призвана обеспечить создание новой экономики, с уровнем, необходимым для демократического общества. Она должна была стать основой для формирования многих структур гражданского общества, к чему, кстати, стремится модернизация. Она может способствовать политической активизации населения и мобилизации его в поддержку переходного развития и укрепления демократических политических институтов.
Теория прав собственности (О. Вильямсон, Р. Коуз, Д. Норт, Дж. Уоллис и др.) [3], осуществляющая исследование разнообразных взаимодействий между экономическими, правовыми и политическими системами, которые всегда реализуются в индивидуальном поведении субъектов собственности, способна определить социальное положение граждан и групп людей. Переструктуризация прав собственности ведет к сдвигам в экономической и политической системе. В результате приватизации, например, земельной собственности формируются новые социальные процессы, меняется характер собственника, отношения собственности, а с этим и вся экономическая система. Иными словами, для отношений (прав) собственности в эко- номике, находящейся в процессе системной трансформации, характерно в высшей степени нестабильное, динамичное и аморфнонеопределенное состояние дел, по крайней мере на первоначальном этапе приватизации и постприватизационного перераспределения прав собственности, что в конечном счете повлияло на концепцию приватизации в России, формы и механизмы ее реализации, характер, состав и возможности эффективной деятельности появившихся субъектов собственности.
В условиях трансформации материальный и человеческий капитал должен быть частично сокращен, частично создан заново по мере нарастания неопределенности. В этой связи в соответствии с концепцией «системного вакуума» [17], возникшего из-за слома плановой системы управления экономикой, возникающая рыночная система коммуникации (рынки товаров, капиталов и труда) заполнялась постепенно. При этом государственные предприятия как типичные бюрократические организации из-за своей дисфункциональности и окостенелости максимально долго препятствуют изменениям среды, вместо того чтобы адаптироваться к ним.
Говоря о процессе реформирования в ходе трансформации, концепция градуализма – одна из двух наряду с шоковой терапией основных альтернативных концепций экономической трансформации постсоветского общества в рыночную экономику характеризует управление скоростью и последовательностью шагов реформ как процесс достаточно сложный, ибо на практике одни не вполне успешные меры влекут за собой другие (необходимые для устранения недостатков). К тому же случайности, которые определяют политический процесс, ставят крест на любых попытках точного планирования процесса реформ. В целом в градуалистическом подходе рациональным представляется тезис о том, что медленные, эволюционно развивающиеся шаги реформ более социально приемлемы, чем быстрые, осуществляемые «сверху» меры.
Показывая закономерную связь экономических преобразований в интересах частного бизнеса и рыночных отношений с происхо- дившими одновременно с ними политическими процессами, нам импонирунт позиция С. Хантингтона, который, хотя и является непоколебимым сторонником частной собственности и свободных рыночных отношений, тем не менее не согласен с линией на минимизацию роли современного государства, убежден в необходимости его активного, регулирующего воздействия на общество. Он глубоко исследует различные стороны современной модернизации общества, в том числе экономические изменения, и подчеркивает, что для успеха модернизации система должна быть в состоянии прежде всего обновлять свою политику, т. е. проводить социальные и экономические реформы усилиями государства [12, с. 151].
Также мы солидарны и с А. Пшеворским, связывавший реформирование экономики с расширением свободы для частного бизнеса, с демократизацией государства, считая всеобщую либерализацию непременным условием перехода авторитарных, социалистических, традиционных политических систем к демократии и рынку, однако в организации этого процесса решающую роль отводя гражданскому обществу, тем возможностям, которыми оно располагает в данной стране. В частности, он утверждал, что в какой-то момент гражданское общество мобилизуется, начинают формироваться организации, которые заявляют о своей независимости от режима, провозглашают собственные цели, интересы и проекты. Такие организации своей деятельностью убеждают власти в силе оппозиционных настроений и вынуждают представителей режима на взаимодействие. Поэтому либерализация данным автором определяется как открытость, имеющая результатом расширение социальной базы режима без изменения его структуры [8, с. 101, 107]. Таким образом, демократизация экономики возможна лишь по мере демократизации государства.
Подобные рассуждения находим в работе американских специалистов Г. С. Россера и Л. К. Саймона [10], в которой речь идет о взаимосвязи политической и экономической сторон приватизации. Авторы разработали свою модель взаимосвязи политики и экономики в процессе приватизации, исходя из обязательности согласования экономических и политических аспектов этого процесса. Они утверждают, что экономические цели не могут достигаться в отрыве от политической ситуации, поскольку последняя накладывает ограничения на выбор приемлемых решений. Со своей стороны сдвиги в сфере экономики могут изменить баланс политических сил. Далее авторы моделируют динамику политических и экономических взаимодействий следующим образом. После завершения приватизации экономическая власть будет сосредоточена у носителей новых интересов, возникнут новые институциональные структуры, которые усилят экономическую власть групп, заинтересованных в защите этих структур. В это время отношение населения к правительству будет определяться оценкой процесса продвижения к рыночной экономике. Изменения в расстановке политических сил будут сказываться на продолжающихся спорах по поводу долгосрочной стратегии экономических реформ. Динамическое взаимодействие экономических и политических аспектов крупномасштабных программ приватизации должно быть принято во внимание модели, игнорирующие эту политико-экономическую взаимозависимость, будут давать завышенную оценку перспектив успешного перехода к рынку.
Таким образом, Г. С. Россер и Л. К. Саймон, во-первых, свою модель строят на обязательности динамики взаимоотношений политики и экономики в процессе приватизации. Во-вторых, они считают неизбежным в ходе этого процесса чередование более сильного воздействия либо со стороны экономики, либо со стороны политики. В-третьих, они совершенно однозначно относятся к приватизации как к форме политического процесса, ибо отмечают ее воздействие на изменения политической системы, на ре- формирование политических составляющих общества.
Однако у российского руководства, начавшего политику реформирования, отсутствовала научно обоснованная концепция, на что обращали внимание как российские, так и западные исследователи [9; 18]. Следует с ними согласиться в том, что введение рынка в России осуществлялось в условиях чрезмерной поспешности, неподготовленности, без проведения необходимой подготовительной работы, что свидетельствует об отсутствии научно-теоретической проработки всего процесса реформирования.
Обобщая различные концепции трансформации, сформулируем некоторые выводы по поводу последствий постсоветской трансформации. Во-первых, несинхронность изменений в институциональных подсистемах общества, способствовала разрушению мифа одновременного рыночного и демократического транзита путем целенаправленных реформ, ведущего к определенным результатам. Во-вторых, повышение вероятности стабильной демократии при выходе общества на высокие уровни экономического развития, расширяющего индивидуальные ресурсы и возможности человеческого выбора, вероятно, в сочетании с усилением значения ценностей свободы и самовыражения, требующих институциональных, легальных гарантий безопасности человеческого выбора. В-третьих, зависимость характер трансформационных изменений от прошлого состояния общества, его историко-культурных традиций, устремлений к свободе, обусловливает доминирование эндогенных факторов развития. Наконец, в-четвертых, характер трансформации зависит от консолидации национальных элит, их умения мобилизовать деятельностный, структурный и культурный потенциалы на формирование и достижение целей преобразований.
Список литературы Трансформационные процессы в России: проблемы, тенденции, последствия
- Brie М. Transformationsgesellschaften zwischen Institutionenbildung und Wandel des Informelen/M. Brie//Max-Planck-Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften/Arbeitsgruppe Transformationsprozesse in den neuen Bundeslandern. -Berlin, 1996. -26 S.
- Brucker H. Entsteht eine neue wirtschaftliche Kluft/H. Brucker, W. Schrettl//Europa. Aus Politik und Zeitgeschichte. -1996. -Bd. 46. -№ 44 -45. -S. 17-21.
- Brucker H. Transformation, Investitionen und Wachstum. Eine theoretische Perspektive/H. Brucker, W. Schrettl//Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung. -1997. -№ 1. -S. 5-13.
- Dietz R. Ten Propositions towards a Theory of Transformation. From Command to Exchange Communication/R. Dietz//Richter S. The Transition from Command to Market Economies in East-Central Europe. -Boulder: Westview Press, 1992. -p. 73-87.
- Hdhmann H. H. Gemeinsamkeiten und Divergenzen im Prozess der osteuropaischen Wirtschaftstransformation: Stichworte fur eine Zwischenbilanz/H. H. Hohmann//Der Osten Eu-ropas im Prozess der Differenzierung. Fortschritte und MiBerfolge der Transformation. -Miinchen: Carl Hanser, 1997. -S. 189-202.
- Karl T. Dilemmas of Democratization in Latin America/T. Karl//Comparative Politics. -1990. -vol. 23. -№ 1. -P. 1-21.
- Lehmbruch G. Die Rolle der Spitzenverbande im Transformationsprozess: Eine neoinstitutionalistische Perspektive/G. Lehmbruch//Kollmorgen R., ReiBig R., WeiB J. Sozialer Wandel und Akteure in Ostdeutschland. -Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996, -S. 117 -146.
- Linz J. J. Presidential or Parliamentary Democracy: Does it Make a Difference?//Linz J. J., Valenzuela A. The Failure of Presidential Democracy. -Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994. -P. 3-87.
- March J. Rediscovering institutions: the organizational basis of politics/J. March, J. 01sen. -N. Y.: Free press, 1989. -227 p.
- Merkel W. Formale Institutionen und informale Regeln in defekten Demokratien/W. Merkel, A. Croissant//Politische Vierteljahresschrift. -2000. -Jd. 41. -H. 1. -S. 3-30.
- O'Donnell, G. On the State, Democratization and Some Conceptual Problems: A Latin American View with Glances at Some Postcommunist Countries/G. О'Donnell//World Development. -1993. -vol. 21. -№ 8. -P. 1355-1369.
- Reifiig R. Transformationsprozess Ostdeutschlands -Entwicklungsstand -Konflikte -Perspektiven//R. ReiBig. Riickweg in die Zukunft. -Frankfurt am Main/New York: Campus, 1993. -S. 11-48.
- Schmitter Ph. The Consolidation of Democracy and Representation of Social Groups // Ph. Schmitter // American Behavioral Scientist. - 1992. - vol. - 35. - № 4/5. - P. 422 - 449.
- Schulein J. A. Theorie der Institution. Eine dogmengeschichtliche und konzeptionelle Analyse/J. A. Schulein. -Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987. -261 p.
- Simon G. Welchen Raum lasst die Geschichte for die Modernisierung Russlands?/G. Simon//Berichte des Bundesinstituts fuer ostwissenschaftliche und internationale Studien. -1998. -Nr. 19. -S. 11-19.
- Streit M. E. Grundprobleme der Systemtransformation aus institutionenokonomischer Perspektive/M. E. Streit, U. Mummert//Diskussionsbeitrag des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Wirtschaftssystemen. 1996. 9/96. -Jena. 180 p.
- Sundhaussen H. Die «Transformation» Osteuropas in historischer Perspektive. Oder: Wie groB ist der Handlungsspielraum einer Gesellschaft?/H. Sundhaussen//Wollmann H., Wie-senthal H., Bonker F. Transformation sozialistischer Gesellschaften: Am Ende des Anfangs. -Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995. -S. 77-92.
- Бъюкенен Дж. M. Сочинения/Дж. М. Бьюкенен/пер. с англ. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике»/Фонд экономической инициативы. -М.: «Тезаурус Альфа», 1997. -Т. 1.-560 с.
- Капелюшников Р. Экономическая теория прав собственности (методология, основные понятия, круг проблем)/Р. Капелюшников. -М.: ИМЭМО АН СССР, 1990. -90 с.
- Карл Т. Пути перехода от авторитаризма к демократии в Латинской Америке, Южной и Восточной Европе/Т. Карл, Ф. Шмиттер//Международный журнал социальных наук. -1991. -№ 1. -С. 29-46.
- Корнай Я. Путь к свободной экономике: Страстное слово в защиту экономических преобразований/Я. Корнай. -М.: Экономика, 1990. -149 с.
- Корнай Я. «Путь к свободной экономике»: десять лет спустя: (переосмысливая пройденное): [Доклад на ежегодной конференции Всемирного банка, посвященной проблемам экономического развития (Вашингтон, 18-20 апр. 2000 г.)]/Я. Корнай//Вопр. экономики. -2000. -№ 12. -С. 41-55.
- Пшеворский А. Демократия и рынок. Политические и экономические реформы в Восточной Европе и Латинской Америке: пер. с англ./А. Пшеворский/Под. ред. проф. Бажанова В. A. -М.: РОССПЭН, 2000. -320 с.
- Радыгин А. К теории приватизации в переходной экономике/А. Радыгин//Вопр. экономики. -1995. -№ 12. -С. 54-67.
- Лукин А. В. Демократизация или кланизация? Эволюция взглядов западных исследователей па перемены в России/А. В. Лукин//Полис. -2000. -№ 3. -С. 61-69.
- Goldman М. The Piratization of Russia: Russian reform goes awry/M. Goldman. -New York: Routiedge, 2003. -289 p.
- Россер Г. С. Политическая экономия перехода: разработка приватизационных соглашений/Г. С. Россер, Л. К. Саймон//Становление рыночной экономики в странах Восточной Европы/пер. с англ.; под. ред. Н. А. Макашевой. -М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1994. -С. 387-428.
- Стиглиц Дж. Кто потерял Россию?/Дж. Стиглиц//ЭКОВЕСТ. -2004. -Вып. 4. -№ 1. -С. 4-37.
- Stiglitz J. The ruin of Russia/J. Stiglitz//The Guardian. 9 April. 2003. [Электронный ресурс] -Режим доступа: http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/09/russia.artsand humanities. -Загл. с экрана (дата обращения 30.11.2011).
- Голдман М. А. Капитализм инсайдеров: приватизация -успех или неудача?/М. А. Голдман//Проблемы теории и практики управления. -1997. -№ 3. -С. 18-22.
- Эллерман Д. Ваучерная приватизация как инструмент холодной войны/Д. Эллерман//Вопросы экономики. -1999. -№ 8. -С. 99-111.
- Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах/С. Хантингтон/пер. с англ. В. Р. Рокитянского. -М.: Прогресс-Традиция, 2004. -480 с.