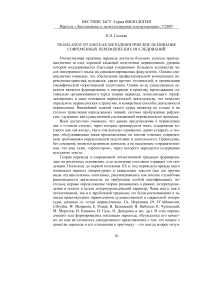Translation Studies как методологическое основание современных переводческих исследований
Автор: Галеева Наталья Леонидовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Проблемы теории
Статья в выпуске: 7, 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/146120436
IDR: 146120436
Текст статьи Translation Studies как методологическое основание современных переводческих исследований
Отечественная практика перевода достигла больших успехов преимущественно за счет хорошей языковой подготовки переводчиков, уровень которой поддерживается благодаря сохранению большого количества часов иностранного языка на специализированных факультетах. Однако специалистам очевидно, что обеспечение профессиональной компетенции переводчика-практика нуждается, среди прочих готовностей, в организации специфической теоретической подготовки. Одним из ее существенных аспектов является формирование и внедрение в практику преподавания оптимально организованного курса теории перевода, позволяющего отреф-лектировать и сами основания переводческой деятельности, что позволит определить переводческую стратегию, и конкретные способы деятельности переводчика. Важнейшей задачей такого курса является не только и не столько трансляция определенных знаний, сколько пробуждение рефлексии, «думания» как существенной составляющей переводческого процесса.
Всем достаточно очевидно, что давнее представление о переводчике как о «тонком стекле», через которое проецируется текст, содержание которого как «на входе», так и «на выходе» одинаково, давно устарело, а теория, обслуживающая такие представления, не вполне отвечает современным требованиям переводческой подготовки и деятельности. Переводчик, без сомнения, является активным деятелем, а не пассивным «отражателем» или, что еще хуже, «проектором», через которого передается содержание исходного текста.
Теория перевода в современной отечественной традиции формировалась на различных основаниях, и ее нынешнее состояние отражает эти тенденции. Поскольку до первой половины ХХ в. под переводом прежде всего понимался перевод литературных и сакральных текстов (все его прочие виды осуществлялись спонтанно, рассматривались как вполне служебные разновидности деятельности, не требующие особой квалификации), постольку первые переводческие теории развивались в рамках литературоведения и носили в целом литературоведческий характер. Чаще всего, как в отечественной, так и в зарубежной традиции, это были воспоминания и записки практикующих переводчиков художественной и сакральной литературы, начиная от «отца переводчиков» Св. Иеронима (N. D’Ablancourt, J.Dryden, W. Benjamin, E. Pound, В. Белинский, В. Набоков, К. Чуковский, М. Морозов, И. Кашкин, Н. Галь, Н. Демурова и мн. др.). В этих переводческих эссе формировались тенденции перевода, обсуждалось его качество, но еще не сложилось дискурсивного представления о том, что вопрос о качестве перевода и его отношении к оригиналу – это всегда вопрос ситуа- ционный, жанровый, нормативный, идеологический и позиционный, т.е. по сути – герменевтический.
Переводческая деятельность и начиналась как деятельность герменевтическая, где понимание и его фиксация средствами иного языка рассматривались фактически нерасчлененно, однако впоследствии герменевтика, закрепившись как толкование сакральных текстов, надолго фактически вышла из филологического употребления. Однако понимание ситуации перевода, понимание того, что каждый жанр требует особого переводческого подхода, понимание баланса и динамики текстовых и переводческих норм, понимание самих норм и их ситуационного характера и прочие «понимания» требуют от переводчика большой рефлексивно-герменевтической деятельности. Это само по себе означает большую рефлективную емкость переводческой деятельности не только с точки зрения освоения исходного текста и выбора адекватных средств его передачи, но и с точки зрения прочих текстовых и экстратекстовых, в первую очередь лингвокультурологических факторов. Однако теория перевода, сложившаяся в середине ХХ в., создавалась на иных теоретических предпосылках, где пониманию этих факторов долгое время уделялось недостаточно внимания.
Сущностной основой для формирования теории перевода в ХХ в. стала лингвистика, в первую очередь структурная лингвистика, которая оформилась в авторитетную, «пилотную» (Ф. Досс) науку незадолго до теории перевода. Теория перевода в этом отношении несколько опоздала, поскольку перевод как практическая деятельность, вовлекающая безграничное многообразие текстов всевозможных жанров на разных языках, стал востребованным в первой половине ХХ в. и лишь тогда потребовал разработки теоретических оснований. Вполне естественно, таким основанием для перевода стала лингвистика, располагавшая к тому времени структурным методом, на который возлагались большие надежды не только в гуманитарных науках.
Однако декларированная особенность структурализма, которая позволяла проводить системные исследования, далеко продвигаясь в этом отношении в изучении языка, заключалась в игнорировании значения и смысла языкового знака и текста в целом. Там, где роль значения была минимальной, структурализм достиг наибольшего и убедительного результата, как, к примеру, в образцовой науке фонологии. При вовлечении в сферу интереса значения и смысла структурная лингвистика и связанные с ней направления – семиотика, теория интертекста (Ю. Кристева), «текст в тексте» (Ю.М. Лотман) становятся менее убедительными и направленными на формальные, а не на содержательные выводы.
Эта особенность привела к формированию теории перевода на чисто лингвистических основаниях, где знак или репрезентация одного языка ставились в соответствие знаку или репрезентации другого языка. В расчет принималось только соответствие этого конкретного знака конкретному знаку, а цепочка соответствий должна была, как предполагалось, привести к соответствию текста тексту. Если такие соответствия отсутствовали, предлагалось производить переводческие трансформации, которые, как считалось, обеспечивали оптимальный конечный результат. Во многом эти теоретические положения базировались на убеждении, что перевод представляет собой достаточно механистическую деятельность преобразования одного сообщения в другое, которая в недалеком будущем будет выполняться машиной.
Стоит отметить, что развитие лингвистики совпало с огромным энтузиазмом и верой в беспредельные возможности кибернетики, когда предполагалось, что в недалеком будущем перевод будет выполняться исключительно машиной. Однако то, что перевод предполагает деятельность по пониманию текста, т.е. он герменевтичен по своей сути, а машина способна быстро перебирать варианты, но ее невозможно «научить» думать даже на минимальном уровне, тогда недооценивался. То, насколько это положение существенно для переводческой деятельности, можно увидеть, подключив доступные в Интернете переводческие программы и увидев результат «перевода». Именно результаты машинного перевода являются наглядным и убедительным подтверждением специфически герменевтического характера переводческой деятельности.
Естественно, прочие, нелингвистические аспекты перевода при механистическом к нему подходе игнорировались, и перевод понимался не в многообразии его ситуационных и жанровых проявлений, а как абсолютно гомогенный процесс манипуляций с единицами текста и перевода, их адекватных замен, а в случае невозможности – трансформаций. В этом отношении большое влияние на формирование как зарубежной, так и отечественной лингвистической теории перевода оказала трансформационная грамматика Н. Хомского.
На основе этих теоретических допущений для разных пар языков выстраиваются системы адекватных замен, «закономерных соответствий», трансформаций (Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров). По сути дела теории как таковой здесь практически нет, поскольку проблема заключается фактически в создании инвентаря соответствий, перечня трансформаций, который конечен и имеет сугубо прикладной характер. Теория в этом отношении сугубо практична и, если бы она разрабатывалась практически, без больших теоретических претензий, она бы могла дать бесценные наработки для практикующих переводчиков, однако сложность, по крайней мере в отечественной науке, заключалась в самой системе организации научных исследований.
Необходимость получать ученую степень, что единственно дает возможность приобщиться к «большой науке», заставила выискивать в сугубо прикладной проблеме «глубокие» теоретические основания, а практические наработки – словари, глоссарии, системы закономерных соответствий, реалий, т.е. вещи, действительно крайне необходимые практикующему переводчику, остались невостребованными, поскольку степеней за них не
ВЕСТНИК ТвГУ. Серия ФИЛОЛОГИЯ
___Выпуск « Лингвистика и межкультурная коммуникация », 7/2007___ присуждали. Кропотливая лексикографическая работа и работа по составлению специфических переводческих словарей так и осталась невыполненной. Еще одним обстоятельством, препятствовавшим созданию специфи-чески-переводческих пособий и словарей, является «расползающийся в разные стороны объект – два языка, две культуры, включенные в переводческий процесс. Лингвистика, которая не всегда способна объяснить явления одного языка, вряд ли способна оказать в этом отношении продуктивное влияние.
То, что практически сделано лингвистической теорией перевода, безусловно, должно быть использовано и используется в курсах по практическому переводу для конкретной пары языков. Лингвистическая теория перевода, в рамках которой и выполняются эти разработки, при этом должна занять достойное и строго определенное место в рамках специфической науки о переводе, способной учитывать не только лингвистические, но и другие, не менее важные обстоятельства, которые должны быть исчислены и определены. Лингвистическая теория перевода в этом отношении является сугубо прикладной дисциплиной, дающей основания для языковых классификаций и вычленения соответствий. Реальная переводческая деятельность и, соответственно, наука о ней, требует выхода далеко за рамки сугубо лингвистических проблем. Вполне логично, что теоретической основой такой теории должна стать не только и не столько собственно лингвистика, как в ее структурной, так и в более ранней сопоставительной части, сколько другие, специфические именно для перевода основания, а именно – межкультурная коммуникация и, соответственно, такие ее составляющие, как сопоставление культур, лингвокультурология, герменевтическое сопоставление предельных понятий культур и составляющих их смыслов, особенно тех, которые специфичны для определенных культур.
При этом основным методом как для создания теоретических оснований, так и для практической переводческой деятельности неизбежно окажется герменевтика, с которой перевод собственно и начинался. Бог Гермес был богом перевода, который дал имя науке о понимании и толковании текста – герменевтике. Это свидетельство тому, что изначально перевод прежде всего герменевтичен, и к этому статусу его необходимо вернуть, поскольку герменевтика в этом отношении выступает как методологическое основание для организации оптимальной деятельности.
Следует отметить, что недостатки лингвистической теории перевода стали очевидны достаточно давно, и в западноевропейской научной традиции были созданы научные предпосылки для разработки более объяснительной теории перевода, которая должна была охватить все его аспекты и проявления. Самым интересным представляется то, насколько рационально и методологически «правильно» изначально задается эта теория. Научные основания новой переводческой теории были заложены в 1972 г. на III Международном конгрессе по прикладной лингвистике в Копенгагене, где Дж. Холмс (J. Holmes) сделал доклад, описывающий объект новой научной дисциплины, после многих сомнений и обсуждений названной Translation Studies. Схематическое представление этого объекта, позже сделанное Г. Тури [8: 10], известно под названием «Карты основных переводческих исследований Холмса» (Holmes’ basic «map» of Translation Studies).
Если оставить в стороне само содержание «карты», которое заслуживает отдельного и подробного обсуждения с точки зрения переводческих проблем и их представленности в программе исследований, стоит особо отметить, что Translation Studies представляет собой одну из немногих гуманитарных дисциплин, которая изначально создавалась по строгому плану, с хорошей рефлективной проработкой всех сущностных оснований и отношений между различными направлениями исследования. Карта предполагает заполненность всех существенных позиций, охватывая таким образом фактически все важные темы исследований и практического использования перевода.
В свое время о необходимости методологической проработки любой дисциплины, претендующей на адекватный и значимый результат, говорил известный отечественный методолог Г.П. Щедровицкий [2]. Как представляется, Копенгагенская группа переводоведов с самого начала путем совместной мыследеятельности создавала методологически «правильную» науку, где каждая из составляющих имела свое место, в том числе и история переводческой деятельности, с которой, по мнению Г.П. Щедровицкого, должна создаваться любая объяснительная наука. «Переводчик без исторической перспективы становится узником своих представлений и тех представлений, которые определяют дискурс в данный конкретный момент» [2: 61]. Перевод как деятельность нуждается в осмыслении своих сущностных оснований, которые не сводятся к нуждам сиюминутного обслуживания потребителей. Перевод в истории и культуре играет культурообразующую роль, которой необходимо отдать должное. Только при этом условии перевод может быть описан как деятельность, а не как процедура замены текста на одном языке текстом на другом.
Создание карты переводческих исследований явилось совместной методологической по своей сути мыследеятельностью, которая и определяет успехи этого направления в современном переводоведении. Карта позволяет не только установить место каждой новой работы, но и прогнозировать и фактически предопределять новые исследования. «Карта» также позволяет избежать пустот и пробелов в организации исследований. Таким образом, с самого начала Translation Studies создаются как образцовая наука, хотя она до сих пор остается фактически незамеченной в отечественном переводоведении, которое по-прежнему сосредоточено на лингвистических основаниях перевода.
Карта переводческой деятельности фактически позволяет разворачивать и задавать пространство исследований, когда каждый ученый может понять, что именно он делает, а главное – для каких целей он производит свою деятельность, в какой взаимосвязи она находится с остальным кон- текстом науки, определить ее место и направление дальнейшего исследования. Такая организация объекта является оптимальной с точки зрения успешности науки. Стоит отметить быстрый прогресс Translation Studies как влиятельного лингвокультурологического и методологического переводческого направления, которое ни в коей мере не отрицает тех наработок, которые были сделаны предшествующими, преимущественно лингвистическими исследованиями. Сугубо языковой аспект переводческой деятельности является лишь одним ракурсом, в котором исследуется перевод, поскольку «перевод это не столько язык. Наоборот, язык как выражение (и хранилище) культуры есть всего лишь элемент в культурном обмене, известном как перевод» [5: 57].
«Карта» в версии Г. Тури [8: 10] представляет из себя следующую конфигурацию (см. рис.):
Translation Studies
«Чистые»
исследования
Прикладные исследования
Теоретические
Дескриптивные ориентированные на
Обучение переводу
Переводческий Критика инструментарий перевода
Общие Частные продукт процесс функцию ограниченные средой территорией регистром типом текста временем проблемой
Рис.
В рамках карты каждый исследователь может определенным образом позиционировать себя и найти свое место в составе общих переводческих исследований. В частности, сам Г. Тури сосредоточился на дескриптивных исследованиях, в рамках которых уделил внимание всем их аспектам, в том числе и многочисленным case studies, которые позволяют выйти на широкие научные обобщения.
Краткое описание составляющих «карты Холмса» вместе с самой картой выполнено Дж. Мандеем [6: 11–13] по материалам самого Дж. Холмса [4]. Дж. Холмс отмечает эмпирический характер дисциплины: «как чистая наука, т.е. наука ради себя самой, без целей какого-либо практического применения, Translation Studies следует двумя главными направлениями: (1) описать явления перевода как процесса и как результата как они манифестированы в мире нашего опыта и (2) установить ведущие принципы, которыми это явление может быть объяснено и спрогнозировано». Соответственно два направления исследований, решающих эти задачи, можно обозначить как дескриптивную теорию перевода и теоретическое изучение перевода.
В этом отношении Дж. Холмс выступает как «чистый» методолог, который стремится создать объяснительную науку, поскольку он понимает, что собрание практических заметок и описание практической деятельности, а также способов ее языковой реализации не продвигает ни исследователя, ни практика перевода на пути понимания сущности и оснований перевода, который по сути есть «демонстративное утверждение понимания» [7: 194]. Дж. Штайнер в этой связи цитирует также знаменитое высказывание Мартина Хайдеггера о том, что «вещь здесь», «вещь, которая существует потому что она здесь» становится бытием только когда она понимается, т.е. переводится .
Для того чтобы понять саму деятельность по переводу (как ее процесс, так и результат, разделенные и разведенные на карте Холмса), необходимо занять внешнюю по отношению к деятелю «чистую» методологическую позицию и отвлечься от средств и способов перевода, которые только тогда «образуют сами себя», когда их помещают в контекст деятельности, а не рассматривают сиюминутно, как конкретную переводческую задачу, и более того, не обсуждают, какая трансформация или какой эквивалент лучше безотносительно деятельности .
Стоит отметить сходство подходов и методов, которые в свое время практиковались в Московском Методологическом Кружке (ММК) под руководством Г.П. Щедровицкого, с деятельностью Копенгагенских перево-доведов. По сути, то, что было заявлено на конгрессе 1972 г., было именно проявлением коллективной мыследеятельности в применении к конкретному научному направлению, которое с тех пор проделало большой путь в осмыслении сущностных оснований перевода и позволило переводческой науке преодолеть узко лингвистические рамки, в которых первоначально была заявлена теория перевода. При этом между исследователями изначально было распределено поле деятельности. Чисто теоретическими исследованиями и обобщениями, т.е. фундаментальной переводческой наукой, мало ориентированной на конкретный переводческий продукт, но которая в результате помогла далеко продвинуться и в организации практической деятельности, занялся А. Лефевр, причем занялся именно так и в том ключе, который всегда рекомендовал как грамотное основание любой науки Г.П. Щедровицкий. Очевидно, продуктивные методологические идеи в то время «витали в воздухе», поскольку, скорее всего, методологический прорыв Копенгагенской переводоведческой группы Г.П. Щедро- вицкому в то время не был известен. А. Лефевр исследовал исторические основания науки о переводе и практической переводческой деятельности, что помогло сделать многие серьезные обобщения относительно самой сущности перевода, его культурологической роли. После его работ стало очевидным, что перевод по своей сути – это не просто вспомогательная и подчиненная деятельность, а деятельность, способствующая развитию культур, их саморефлексии, поскольку основания собственной культуры проясняются в сопоставлении с «инаковостью», которая входила в культуру через перевод. Интерес представляют и многие другие аспекты перево-доведческих работ А. Лефевра (см. обсуждение: [1]).
Дескриптивной частью Translation Studies занимается Г. Тури, и его многочисленные сase studies в сочетании с широкой априорной методологической перспективой, воспринятой им от Дж Холмса и его последователей, позволяют ему приходить к важным выводам с другой стороны, путем анализа конкретных текстовых образцов.
При этом изначально очевидно, и это закреплено на «карте Холмса», что «чистые» и «дескриптивные» аспекты Translation Studies отделены от прикладных исследований и наработок. «Чистые» исследования между тем позволили сделать чрезвычайно важные выводы о переводе как «понимающей» деятельности. Напомним в связи с этим, что в отечественной лингвистической теории перевода «понимание» фактически не проблема-тизировалось и фактически выводилось за его пределы. В одном из сборников 70-х гг. по теории перевода в редакторском предисловии автор выражает сомнение в том, что понимание вообще каким-либо образом должно присутствовать в переводе, поскольку деятельность переводчика в этой онтологии определяется успешностью субститутивных манипуляций.
Теоретический раздел Translation Studies объясняет перевод именно с точки зрения понимания и интерпретации. В частности, многочисленные версии перевода одного текста, иногда далеко отстоящие как друг от друга, так и от оригинала, объясняются как различным отношением к оригиналу в разные исторические периоды, так и различными позициями переводчиков в деятельности – аспект, который практически не учитывается лингвистическими исследованиями. Между тем вариативность перевода, многообразие переводов и переводческих позиций является реалией и универсалией перевода, которую не объяснить с позиций языковой эквивалентности. Поэтому многовековая история переводческой деятельности фактически не рассматривается и не укладывается в рамки лингвистического подхода к переводу.
Теоретическая деятельность Translation Studies позволила адекватно расставить акценты и приоритеты и в прикладном разделе, т.е. оптимизировать непосредственную деятельность переводчика, которого обеспечили основаниями для понимания и рефлексии над собственной деятельностью. Важным обстоятельством является то, что непосредственная разработка программ подготовки переводчиков, программного обеспечения перево- дческой деятельности также осуществляется в рамках Translation Studies, причем четкое понимание каждого аспекта деятельности и его связи с остальными является одной из предпосылок успеха в организации переводческой деятельности.