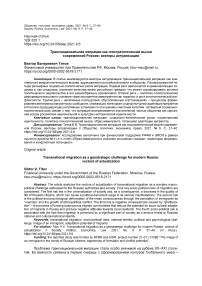Транснациональная миграция как геостратегический вызов современной России: векторы актуализации
Автор: Титов Виктор Валериевич
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются векторы актуализации транснациональной миграции как комплексного макрополитического вызова, адресованного российской власти и обществу. Рассматриваются четыре рельефных социально-политических риска миграции. Первый риск заключается в криминализации социума и, как следствие, снижении качества жизни российских граждан, что может спровоцировать всплеск политического недовольства в его разнообразных проявлениях. Второй риск - политико-психологические деформации массового сознания через восприятие иммигрантов как «врагов» и рост этнополитической конфликтности. Третий риск - негативные последствия, обусловленные «геттоизацией» - процессом формирования автономных мигрантских сообществ, снижающих потенциал социокультурной адаптации мигрантов в России и продуцирующих негативные установки по отношению к местным жителям. Четвертый социально-политический риск связан с тем, что миграция воспринимается значительной частью общества как серьезная угроза российской национальной и культурно-исторической идентичности.
Транснациональная миграция, социально-политические риски, национальная идентичность, политико-психологический вызов, образ иммигранта, потенциал адаптации мигрантов
Короткий адрес: https://sciup.org/149137109
IDR: 149137109 | УДК: 325.1 | DOI: 10.24158/pep.2021.9.6
Текст научной статьи Транснациональная миграция как геостратегический вызов современной России: векторы актуализации
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия, ,
Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia, ,
Funding: the reported study was funded by RFBR and EISR, project number 21-011-31096 “The image of an immigrant in the minds of Russian citizens: trajectories of formation and conflict potential”.
Проблема транснациональной миграции стала особо значимой на рубеже ХХ–ХХI столетий. Ее важность связана в первую очередь с сформированием контуров глобального мира – турбулентного и противоречивого во всех своих проявлениях: военно-политическом, социокультурном, экономическом, информационном. «Глобальные изменения во всех сферах жизни мирового сообщества в конце ХХ – начале XXI вв. привели к масштабному нарастанию миграционных потоков: большинство стран являются государствами или отпускающими мигрантов, или принимающими мигрантов, или транзитными. Россия одновременно выступает во всех трех ролях, и одной из самых актуальных сегодня проблем является проблема социально-культурной интеграции мигрантов» [1, с. 115].
Можно согласиться с мнением, что «важнейшим фактором, обусловливающим современную глобальную миграцию, являются диспропорции в демографическом развитии. Мировое население в XXI в. продолжает интенсивно увеличиваться. В 2011 г. его численность перешагнула рубеж в 7 млрд человек. При этом 82 % живет в развивающихся странах и только 18 % в экономически развитых государствах… процент мигрантов из развивающихся стран в странах Запада будет повышаться. Таким образом, число выходцев из развивающихся стран и их жителей будет неуклонно нарастать» [2, с. 153]. Вместе с тем следует признать, что масштабы влияния миграционного фактора на динамику разных геополитических макрорегионов и отдельных государств часто несопоставимы. Они обусловлены и собственно географическим положением конкретного государства, и соответствующей этнополитической конфигурацией, и особенностями проводимой миграционной политики (от инклюзивной модели, которую до недавнего времени исповедовали власти ряда западноевропейских стран, до «закрытой» миграционной стратегии).
Еще один немаловажный компонент для оценки значимости миграции по отношению к конкретной стране – является ли она политическим, экономическим и культурным «центром притяжения» для выходцев из сопредельных стран. В связи с этим показателен опыт постсоветской России, которая с начала 1990-х гг. стала таким центром для мигрантов из большинства стран СНГ. Если первая волна миграции в Российскую Федерацию была связана с наиболее болезненными последствиями распада СССР, многочисленными этнополитическим конфликтами на постсоветском пространстве, то условная вторая (2000-е гг.) – преимущественно с социально-экономическим причинами [3]. К концу 2010-х гг., после заморозки конфликта на Донбассе, наметился спад интереса к России со стороны мигрантов. Дальнейшее сокращение миграции было вызвано пандемией COVID-19 и закрытием границ: «на территорию Российской Федерации в 2020 г. прибыло 5,8 млн иностранных граждан, что ниже показателя за аналогичный период прошлого года на 70 %. Более 75 % всех въехавших в Российскую Федерацию иностранных граждан прибыли в I квартале. Покинули территорию России в 2020 г. 5,7 млн иностранных граждан (–68 %)» [4].
Однако международно-политические события 2021 г., связанные с резким обострением ситуации в Афганистане с перспективой дестабилизации обстановки в центральноазиатских республиках – Таджикистане, Узбекистане и, возможно, в Кыргызстане и южных областях Казахстана (что может спровоцировать новый поток переселенцев оттуда), вновь актуализируют миграционную проблематику в контексте геостратегических интересов России. В рамках данной статьи представляется важным рассмотреть четыре вектора актуализации (социально-политических риска) фактора транснациональной миграции в контексте обеспечения безопасности и социально-политической стабильности РФ.
Первый социально-политический риск связан с тем, что в современных реалиях миграция, как правило, является катализатором дополнительной криминализации социума-реципиента . Можно полностью солидаризироваться с утверждением, что сегодня миграционные потоки стали использоваться транснациональной преступностью, а мигранты стали средством и жертвами криминальных групп [5]. Более того, вовлечение мигрантов в сферу организованной преступности может рассматриваться в двух взаимосвязанных контекстах: собственно криминальном (ухудшение криминогенной обстановки и снижение качества жизни населения как неизбежное следствие этого) и психологическом. Последний состоит в том, что тяжкие преступления, совершаемые иммигрантами в России (особенно выходцами из Средней Азии и Закавказья), получают широкий общественный резонанс и неизбежно провоцируют рост этносоциальной напряженности, а также (если местные или региональные власти не могут быстро купировать всплеск анти-мигрантских настроений) выступают триггером локальной социально-политической нестабильности. Среди таких очагов напряженности, имевших место на территории Российской Федерации в последние годы, наиболее известным стал конфликт в Якутии в марте 2019 г.
Отсюда органично вытекает второй - политико-психологический - риск, который имеет двойственную природу. Первая его составляющая – многочисленные негативные этносоциальные стереотипы, присутствующие в сознании и коренного населения, и иммигрантов. Указанные стереотипы способствуют кристаллизации образа «чужих» не просто как отличных от «нас» по культуре, религии, образу жизни, а именно как потенциальных «врагов», от которых исходит се- рьезная опасность – если не явная, то, по крайней мере, завуалированная. В связи с этим показательны и промежуточные результаты политико-социологического опроса (232 респондента в 18 субъектах Российской Федерации), проведенного в рамках научно-исследовательского проекта «Образ иммигранта в сознании российских граждан: траектории формирования и конфликтный потенциал» (грант РФФИ-ЭИСИ 21-011-31096, руководитель – д-р полит. наук В.Ю. Зорин). Они свидетельствуют о том, что первоочередными политико-психологическим факторами, влияющими на конституирование и воспроизводство негативных установок по отношению к мигрантам в современном российском обществе, являются:
-
– влияние общего информационного фона, создаваемого массмедиа, в том числе «альтернативной» (не поддерживаемой действующей властью и даже блокируемой) социально-политической повестки дня, которая находится за пределами дискурса официальных СМИ, но активно формируется в политическом пространстве современного Рунета;
-
– индивидуальное чувство дискомфорта, связанное с активной демонстрацией мигрантами маркеров собственной (а для большинства российских граждан – «чужой») этнокультурной и религиозной идентичности в разнообразных «пространствах повседневности» («по-другому одеваются», «переходят на свой язык», «ведут себя не так, как у нас у всех принято»);
-
– локальные слухи и наличие собственного конфликтного опыта в ходе эпизодических бытовых взаимодействий с «приезжими». При этом антимигрантские установки респондентов выражены значительно более сильно, если: а) указанный опыт был не единичен; б) он подкреплен аналогичным опытом людей из близкого социального окружения человека (родственники, друзья, знакомые) или даже опосредованного контура коммуникации (родственники коллег по работе, «знакомые знакомых» и т. д.).
Симбиоз указанных причин способствует выработке установки безусловного недоверия к иммигрантам – представителям иной культурной традиции, формированию того эффекта межкультурной коммуникации, который может быть описан как «презумпция виновности» иммигрантов в любой возможной ситуации.
Во многом схожие тенденции фиксируют И.Б. Бритвина и Е.Л. Могильчак, которые в своей работе «Типология жителей российского мегаполиса по отношению к иноэтничным мигрантам» на основе анализа кейса г. Екатеринбурга выделяют четыре типологические группы: «непримиримые», «равнодушные», «противоречивые» и «действенные благожелатели». При этом последняя группа является самой малочисленной (15,5 % опрошенных), а наиболее многочисленной – «непримиримый» кластер (34,9 %) [6].
Таким образом, можно говорить, что социальный страх перед «чужими» занимает существенное, а порой центральное место в той системе координат, сквозь которую россияне воспринимают иммигрантов. По существу, сегодня иррациональный страх (более 30 % респондентов, опрошенных в ходе исследования и проявивших антимигрантские установки, не могут объяснить, чем вызвано их негативное отношение к приезжим), базирующийся на недоверии a priori, определяет отношение к мигрантам как таковое. Немаловажно, что негативизм по отношению к мигрантам из постсоветских стран сопряжен с конфликтным потенциалом общества, недоверием к власти на всех уровнях ее организации, от местного до федерального (которое можно выразить одной редуцированной фразой – «не могут порядок навести»).
Третий вызов, о котором говорят многие исследователи миграционной проблематики, – это поэтапная «геттоизация» российского социального пространства : формирование полуавто-номных мигрантских сообществ (условных «гетто»), часто не только серьезно криминализованных (и пополняемых за счет нелегальных мигрантов или тех, кто вынужден находиться в «серой зоне» трудовой миграции), но и способствующих снижению мотивации приезжих к социокультурной адаптации в новых условиях. Это связано с очевидным фактом: «свой» этнокультурный мир, выступая комфортной средой обитания многих мигрантов, продуцирует и установки на социальное отчуждение от «большого» социума. Однако следует понимать, что стратегии «ухода» от внешней среды при росте численности иммигрантского сообщества достаточно быстро становятся неэффективными и заменяются на модель противопоставления , в той или иной степени предполагающую потенциальную готовность вступить в конфликтные отношения и с местным населением, и с другими этническими группами мигрантов. Яркий пример последнего – массовая драка между выходцами из среднеазиатских республик, преимущественно Кыргызстана и Таджикистана, которая произошла в Москве 12 июля 2021 г. Естественно, что такие межэтнические столкновения, даже если они носят точечный характер и не предполагают прямой агрессии против местного населения, служат фактором роста протестных настроений в обществе (поскольку власть в этом случае несет в глазах граждан прямую ответственность за то, что допустила такую ситуацию) [7].
Четвертый риск может быть охарактеризован как идентификационный , поскольку он затрагивает социокультурные основания российской национально-государственной идентичности.
На наш взгляд, его можно рассматривать в двух проекциях: в ракурсе демографической трансформации пространства РФ и с точки зрения субъективного восприятия россиянами иммигрантов в качестве угрозы культурно-историческим первоосновам общероссийской «матрицы» идентичности (с присущими ей социально-политическими смыслами, образами, ценностными ориентирами). Такое восприятие выстраивается через механизм совмещения негативного психоэмоционального («антимигрантского») фона, складывающегося в пространстве социальных медиа, со скептическим отношением к государственной миграционной политике («ничего хорошего, кроме обострения межнациональных отношений, сегодняшняя миграционная политика принести не может, как и модель постсоветской интеграции, которая сегодня никому не нужна» [8]). Другими словами, российские граждане, испытывая низкий уровень доверия к большинству властных институтов, не верят и в то, что государство сможет защитить их от возможного давления со стороны инокультурных мигрантов в будущем.
Таким образом, нами были охарактеризованы четыре взаимообусловленных вектора актуализации транснациональной миграции в качестве многогранного социально-политического вызова , адресованного сегодняшней России: тенденция криминализации мигрантских сообществ, рост политико-психологической напряженности и конфликтности, фрагментация социального пространства через формирование полузакрытых мигрантских социумов и, наконец, массовое восприятие миграции в качестве угрозы российской национально-культурной идентичности.
Список литературы Транснациональная миграция как геостратегический вызов современной России: векторы актуализации
- Бритвина И.Б., Могильчак Е.Л. Типология жителей российского мегаполиса по отношению к иноэтничным мигрантам // Мир России. Социология. Этнология. 2018. Т. 27, № 1. С. 114-134. DOI: 10.17323/1811-038x-2018-27-1-114-134
- Дробот Г.А. Глобальная миграция: факторы, последствия, регулирование, диаспоры // Социально-гуманитарные знания. 2012. № 1. С. 152-170.
- Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума [Электронный ресурс] // Ведомости. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/04/08/798624-chislo-migrantov-rossii (дата обращения: 09.09.2021).
- Миграционная ситуация в Российской Федерации за 2020 год [Электронный ресурс] // Интернет-портал СНГ. URL: https://e-cis.info/cooperation/3782/91012/(дата обращения: 09.09.2021).
- Дробот Г.А. Указ. соч.
- Бритвина И.Б., Могильчак Е.Л. Указ. соч. С. 125-128.
- Отголоски пограничного конфликта: ряд участников массовой драки выдворят из России [Электронный ресурс] // RT на русском. URL: https://ru.rt.com/iytp (дата обращения: 09.09.2021).
- Мигранты вытесняют русских. "Плавильный котел не сработал" [Электронный ресурс] // Царьград. URL: https://tsar-grad.tv/articles/migranty-vytesnjajut-russkih-plavilnyj-kotjol-ne-srabotal_315196 (дата обращения: 09.09.2021).