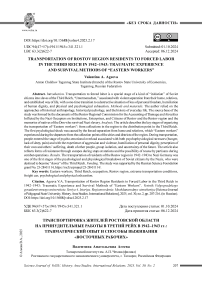Транспортировка жителей Ростовской области на принудительные работы в Третий рейх в 1942–1943 гг.: травматический опыт и способы выживания «восточных рабочих»
Автор: Агеева В.А.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: «Без срока давности»: нацистская пропаганда, оккупация и сопротивление захватчикам
Статья в выпуске: 2 т.30, 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Транспортировка на принудительные работы – это особый этап своеобразной «инициации» советских граждан в рабов Третьего рейха, «унтерменшей», связанный с насильственным отрывом от своего дома, родных, устоявшегося уклада жизни, при одномоментном переходе в деструктивную ситуацию потери личной свободы, унижения человеческого достоинства, физического и психологического истощения. Методы и материалы. Автор опирался на подходы исторической антропологии, исторической психологии, истории повседневности. Основу источниковой базы исследования составили документы Ростовской областной комиссии по учету ущерба и злодеяний, нанесенных немецко-фашистскими оккупантами учреждениям, предприятиям и гражданам г. Ростова и Ростовской области, и воспоминания уроженцев Дона, переживших нацистское рабство. Анализ. В статье описаны ключевые этапы организации транспортировки «восточных рабочих»: от сборов на территории региона до пункта распределения в Третьем рейхе. Первый психологический шок, обусловленный насильственным отрывом от дома и родных, «восточные рабочие» испытывали во время отправки со сборных пунктов городов и районов области. Во время транспортировки люди вступали в стадию психоэмоциональной перегрузки, связанной как с психофизиологическими стрессорами (голод, недостаток сна, боль), так и с переживанием агрессии и насилия, унижения личного достоинства, восприятием своих и чужих страданий, смерти других людей, групповой изоляцией, неопределенностью будущего. Нашли отражение в статье и формы сопротивления посредством побегов во время остановок на станциях и возможность спасения партизанами в ходе боевых операций. Результаты. Транспортировка жителей Ростовской области в 1942–1943 гг. в нацистскую Германию являлась одним из первых этапов психологической и физиологической ломки нацистами советских граждан, которым была уготована судьба «невольников» Третьего рейха. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01114, https://rscf.ru/project/23-28-01114/.
Восточные рабочие, Третий рейх, оккупация, Ростовская область, экстремальные условия транспортировки, товарный вагон, психологическое и физическое истощение
Короткий адрес: https://sciup.org/149147760
IDR: 149147760 | УДК: 94(47+57)«1941/1945»:341.321.1 | DOI: 10.15688/jvolsu4.2025.2.17
Текст научной статьи Транспортировка жителей Ростовской области на принудительные работы в Третий рейх в 1942–1943 гг.: травматический опыт и способы выживания «восточных рабочих»
DOI:
Abstract. Introduction. Transportation to forced labor is a special stage of a kind of “initiation” of Soviet citizens into slaves of the Third Reich, “Untermenschen,” associated with violent separation from their home, relatives, and established way of life, with a one-time transition to a destructive situation of loss of personal freedom, humiliation of human dignity, and physical and psychological exhaustion. Methods and materials. The author relied on the approaches of historical anthropology, historical psychology, and the history of everyday life. The source base of the study was formed by the documents of the Rostov Regional Commission for the Accounting of Damage and Atrocities Inflicted by the Nazi Occupiers on Institutions, Enterprises, and Citizens of Rostov and the Rostov region and the memories of natives of the Don who survived Nazi slavery. Analysis. The article describes the key stages of organizing the transportation of “Eastern workers”: from collections in the region to the distribution point in the Third Reich. The first psychological shock was caused by the forced separation from home and relatives, which “Eastern workers” experienced during the departure from the collection points of the cities and districts of the region. During transportation, people entered the stage of psycho-emotional overload associated with both psychophysiological stressors (hunger, lack of sleep, pain) and with the experience of aggression and violence, humiliation of personal dignity, perception of their own and others’ suffering, death of other people, group isolation, and uncertainty of the future. The article also reflects forms of resistance through escapes during stops at stations and the possibility of rescue by partisans during combat operations. Results. The transportation of residents of the Rostov region in 1942–1943 to Nazi Germany was one of the first stages of the psychological and physiological breakdown of Soviet citizens by the Nazis, who were destined to become “slaves” of the Third Reich. Funding. The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 23-28-01114,
Аннотация. Введение. Транспортировка на принудительные работы – это особый этап своеобразной «инициации» советских граждан в рабов Третьего рейха, «унтерменшей», связанный с насильственным отрывом от своего дома, родных, устоявшегося уклада жизни, при одномоментном переходе в деструктивную ситуацию потери личной свободы, унижения человеческого достоинства, физического и психологического истощения. Методы и материалы. Автор опирался на подходы исторической антропологии, исторической психологии, истории повседневности. Основу источниковой базы исследования составили документы Ростовской областной комиссии по учету ущерба и злодеяний, нанесенных немецко-фашистскими оккупантами учреждениям, предприятиям и гражданам г. Ростова и Ростовской области, и воспоминания уроженцев Дона, переживших нацистское рабство. Анализ. В статье описаны ключевые этапы организации транспортировки «восточных рабочих»: от сборов на территории региона до пункта распределения в Третьем рейхе. Первый психологический шок, обусловленный насильственным отрывом от дома и родных, «восточные рабочие» испытывали во время отправки со сборных пунктов городов и районов области. Во время транспортировки люди вступали в стадию психоэмоциональной перегрузки, связанной как с психофизиологическими стрессорами (голод, недостаток сна, боль), так и с переживанием агрессии и насилия, унижения личного достоинства, восприятием своих и чужих страданий, смерти других людей, групповой изоляцией, неопределенностью будущего. Нашли отражение в статье и формы сопротивления посредством побегов во время остановок на станциях и возможность спасения партизанами в ходе боевых операций. Результаты. Транспортировка жителей Ростовской области в 1942–1943 гг. в нацистскую Германию являлась одним из первых этапов психологической и физиологической ломки нацистами советских граждан, которым была уготована судьба «невольников» Третьего рейха. Финансирование. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01114,
Цитирование. Агеева В. А. Транспортировка жителей Ростовской области на принудительные работы в Третий рейх в 1942–1943 гг.: травматический опыт и способы выживания «восточных рабочих» // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведение. Международные отношения. – 2025. – Т. 30, № 2. – С. 207–216. – DOI:
Введение. Тема исследования отличается высоким уровнем научной и общественно-политической актуальности, обусловленным, с одной стороны, ее соответствием современным направлениям исследовательского поиска, а с другой – активным использованием истории Второй мировой / Великой Отечественной войн в политике памяти постсоветских государств. Война стала одной из масштабных антропогенных катастроф в истории ХХ века. С 2000-х гг. набирают темп тенденции искажения исторической памяти о войне в современном геополитическом пространстве, пересматривается роль СССР в Победе над фашизмом, возрождаются идеи неофашизма и неонацизма в странах Европы и на постсоветском пространстве. С уходом из жизни жертв Третьего рейха как непосредственных носителей памяти, эти страны теряют иммунитет против нацизма, ярким примером этого являются современные события. В связи с этим особенно важным становится обращение к материалам и документам, свидетельствующим о злодеяниях нацистов, их союзников и пособников, совершенных в от- ношении мирных жителей СССР, испытавших все тяготы и ужасы оккупационного режима. В ходе Нюрнбергского процесса увод в рабство гражданского населения Международный военный трибунал признал одним из главных преступлений Третьего рейха против человечности [15].
Советских граждан, насильно вывезенных во время Великой Отечественной войны на работы в Германию, называли «восточными рабочими». С территории Ростовской области на принудительные работы в Германию было угнано 84 030 чел. [24, л. 2].
Транспортировка на принудительные работы – это особый этап своеобразной «инициации» советских граждан в рабов Третьего рейха, «унтерменшей», связанный с насильственным отрывом от своего дома, родных, устоявшегося уклада жизни, Родины, при одномоментном переходе в деструктивную ситуацию потери личной свободы, унижения человеческого достоинства, физического и психологического истощения. Путь до конечного пункта принудительного трудоиспользования мог длиться до четырех недель, в процессе которого у части обреченных на животном уровне появлялось чувство смирения со своей участью и страха физической расправы, облегчающие дальнейший этап формирования покорного раба, человека «второго сорта».
Одним из первых в отечественной историографии к изучению судьбы советских военнопленных и гражданских рабочих в годы Второй мировой войны обратился П.М. Полян [19]. В его монографии показаны исторические предпосылки принудительного трудо-использования гражданских лиц в Германии, описываются инструменты вербовки и принудительной отправки в Германию, представлена система трудоиспользования «восточных рабочих» и советских военнопленных, особенности их быта и др. Большой интерес для раскрытия заявленной в статье темы представляет исследование Е.Ф. Кринко [11], в котором нашел отражение и сюжет транспортировки подростков из Советского Союза. Особую ценность имеет источниковая база данной работы, включающая опросные листы. Отдельное место в современной историографии занимает опубликованная в Германии статья ведущего отечественного специалиста по изучению проблематики принудительного труда в Третьем рейхе Н.П. Тимофеевой [26]. Стоит отметить, что на протяжении последних десятилетий существенно возрос исследовательский интерес со стороны отечественных профессиональных историков к изучению политики нацистской Германии, которая была нацелена на насильственное перемещение гражданского населения для последующего трудоиспользования в немецком хозяйственном комплексе [1; 2; 12; 18]. В то же время изучение историографии данной проблематики показывает, что в исторической литературе пока еще слабо изучен сюжет о транспортировке советских граждан на принудительные работы в Третий рейх.
Цель нашей работы – охарактеризовать путь в нацистскую Германию как один из первых экстремальных этапов психологической и физиологической ломки нацистами советских граждан, которым была уготована судьба невольников, и обобщить травматичный опыт выживания жителей Ростовской области в условиях транспортировки на принудительные работы в Третий рейх.
Методы и материалы. Автор опирался на подходы исторической антропологии, исторической психологии, истории повседневности. Методологической основой исследования стали принципы историзма, объективности и системности при анализе и обобщении материала. Анализ выполнен на основе архивных документов и источников личного происхождения. Значительная информация о пунктах сбора, бытовых условиях, транспортировки, мерах наказаний и побегах угоняемых мирных жителей Ростовской области в Третий рейх сохранилась в материалах фонда Р-1886 Центра документации новейшей истории Ростовской области (далее – ЦДНИРО). Отдельные документы впервые вводятся в научный оборот. Значимую роль в изучении избранной проблемы играют опубликованные и неопубликованные воспоминания участников и очевидцев событий. Документы личного происхождения стали основой для раскрытия индивидуальнопсихологического восприятия «восточными рабочими» своей судьбы рабов Третьего рейха и их адаптации к экстремальной повседневности узников товарных вагонов. Особый вид источника представляют автобиографические художественные и документально-художественные издания ростовчан В.Н. Сёмина [23] и Е.В. Моисеева [13].
Анализ. Общее руководство процессом угона на принудительные работы в Третий рейх мирных жителей Ростовской области осуществляли хозяйственная команда г. Сталино (Донецк) и командование 6-й армии вермахта. Средства запугивания к мирным жителям региона применялись сразу же с момента организации их сбора для транспортировки посредством указаний оккупационных властей, вручения повесток биржи труда, облав и др. В одном из приказов военного коменданта содержалось предостережение – всем, кто не зарегистрируется на бирже труда для отправки на работы в Германию, грозил расстрел. Такие приказы были расклеены по всему городу [14, с. 125]. Угрозы сыпались не только в отношении непосредственно самих угоняемых, но и в адрес их родных. Оккупанты манипулировали чувствами, в основном детей, к своим родителям и близким людям, которым грозили жестокие наказания: «Я родилась в Таганроге; мне было 16, когда началась война. Тог- да нас и начали забирать. Немцы сказали, если мы не поедем с ними в Германию, они убьют наши семьи. В городе стояли виселицы, на которых вешали людей» [6, л. 12].
В архивах сохранились документы, в которых родные так описывали последнюю ночь своих близких дома: «Бедная девушка убивалась, она падала в обморок, ей трудно было расстаться с родным домом» [16, л. 49]. Родители переживали не меньше своих детей: «...они под насилием назначили мою дочь Мироненко... комиссия признала ее годной для эксплуатации немцами и на гиблое мучение, а отцу и матери тяжелая грусть и на сердце большая печаль» [10, л. 57].
Процесс сбора в дальнюю в дорогу происходил по-разному. Одни получали для этого несколько дней [6, л. 3]. Другие – несколько часов: «4-го ноября в 12 часов ночи моей дочери вручили повестку для отправления в Германию, а к 5-ти часам утра того же числа моя дочь должна была быть готова к отправке. Что я могла приготовить ей в такой срок» [16, л. 49].
В самом бедственном положении оказывались те, кого забирали внезапно из дома отправляли на временные сборные пункты: «Моя дочь скрывалась от мобилизации в Германию до ноября месяца. В ноябре 1942 г. пришел на дом полицейский в 5 часов утра, забрал с постели и повел где находилась фашистская биржа труда, где просидела в подвале до 13-го ноября после этого их всех под конвоем повели на Нахичеванский полустаночек» [9, л. 193], и те, кто попадал в облаву и отправлялся к месту транспортировки не из дома [13, с. 58].
Сохранились сведения о том, как в феврале месяце в г. Шахты, несмотря на отступление, немцы успели на бирже труда составить описи на 12 тысяч жителей, которых должны были угнать в рабство. По итогам оккупантам удалось вывезти около 5,5 тысяч рабочих г. Шахты. Чтобы добиться такой цели, немецкие патрули, жандармерия, полиция и гестапо организовывали массовые облавы на местное население. Несмотря на зимнюю стужу, оккупанты конвоировали колонны полураздетых и голодных жителей для последующей транспортировки [4, л. 112].
Одна из колхозниц Волошинского района так описывала проводы своей дочери: «Мы проводили Марусю на вокзал. Тысячи молодых юношей и девушек грузили в товарные вагоны, которые были под зоркой охраной. Гул паровоза смешался с криками и воплями, жаль было смотреть на бедных, измученных от слез детей, они были убиты и ходили как потерянные. Трудно представить жуткую картину. Нашей оставшейся семье каждую минуту грозила опасность, мы могли подвергаться казни и пыткам...» [17, л. 54]. Из г. Пролетар-ска на работы в Германию были увезены 1 800 человек. Все они проживали на территории города и прилегающего к нему района. Вся молодежь, среди которой встречались подростки, молодые женщины и девушки, насильно сгонялась на вокзал. Затем, разлучив с семьями, их сажали в эшелоны и закрывали вагоны, преграждая путь провожающим. Таким образом, у родственников не было никакой возможности попрощаться с угоняемыми в рабство [3, л. 12]. Так, уже в ходе расставания с домом, отъезжающие, большинство из которых были подростки, испытывали состояние первичного психологического шока, связанного с насильственным отрывом от родных.
Запись в дневнике таганрожца Н. Саенко от 10 мая 1942 г. демонстрирует то, что жители оккупированных территорий не питали иллюзий и прекрасно понимали, что их ждет на чужбине: «Сегодня была очередная отправка людей в Германию. Отправлялась исключительно молодежь: ребята, девки и юноши не семейные. Сколько плачущих, как уезжающих, так и провожающих... Если нам, советским людям, всмотреться как следует в эти насильные отправки людей, то невольно воображаются старые времена рабовладель-чества...» [8, л. 91].
Транспортировка мирных жителей Ростовской области в Германию осуществлялась по железной дороге через территорию Украины и Польши [25, с. 144]. В документах сохранились упоминания следующих станций на территории Ростовской области: Миллерово, Мальчевская, Красновка, Ростов-на-Дону [5, с. 157], где собирали партии жителей региона для отправки в нацистскую Германию. Из других населенных пунктов области до этих станций добирались в основном пешим ходом. Один из бывших «восточных рабочих»
вспоминал о том, как 3 октября 1942 г., когда Новочеркасск находился под властью гитлеровцев, он и многие граждане были вызваны в бюро труда, где узнали об отправке в Германию. После этого все угнанные направились в г. Ростов пешком колоннами, а там были погружены в товарные вагоны по 50 чел. в каждом [14, с. 157]. Угоняемых из отдаленных поселков иногда доставляли до станций на подводах [10, л. 57].
Несмотря на то что в г. Таганроге были железнодорожные станции и через них следовал транспорт с угнанными жителями, например из г. Ростова-на-Дону [20, л. 42], во многих воспоминаниях таганрожцев, переживших рабство Третьего рейха, отмечается, что они сначала пешим порядком преодолевали расстояние примерно в 120 километров до Мариуполя, и только потом их грузили в вагоны [21, л. 38].
Перевозили «восточных рабочих» в вагонах, не приспособленных для длительной транспортировки людей. Из рассказа ростовчанки Л. Матвиенко: «Раннее утро 5 сентября 1942 года. Под конвоем, в строю, с котомками, узлами и чемоданами нас пригнали на Ростовский вокзал. Здесь мы ждали целый день. Вечером подали длинный состав товарных вагонов... нас, как скот, загнали в эти вагоны. Они были грязны, полны мусора, угольной пыли. Ни скамеек, ни нар... Лязгнули буфера. Их стук отдался в моих ушах, как погребальный звон. Он заглушил наши отчаянные, прощальные крики» [7, с. 66].
В пути следования «восточные рабочие» погружались в ситуацию подавления и разрушения личности. Многие вспоминали, что в вагоны «утрамбовывали» по 50–60 чел. без разделения по гендерному признаку. Для предотвращения попыток побега и исключения возможности людей самостоятельно регулировать свои действия во время пути, замки располагались снаружи вагона. С этим обстоятельством связано нарастание стрессовой ситуации и ощущение ужаса от того, что твоя собственная жизнь больше тебе неподконтрольна. Это психологическое состояние усиливалось на остановках, когда охрана палками выгоняла людей из вагонов и также загоняла обратно. Таганрожец Белоусов на всю жизнь запомнил момент, связанный со своей беспомощностью перед «немецкими господами»: «В пределе двух недель мы ехали до Германии. Когда нас привезли в Лембергс, тогда это был Львов, без разницы. Там была, значит, дезинфекция, и мы впервые попробовали, как бьют палками по головам. Потому что надо идти туда, а я не знаю куда, я не знаю по-немецки как» [6, л. 15]. Таким образом, у обреченных на рабскую долю все более нарастало понимание невозможности предсказать, за что тебя поощрят или накажут. Побои, порка, различные издевательства были обычным делом по пути следования: «Пришел немец, комендант эшелона, в пьяном виде, выстроил нас с помощью солдат, которые нас охраняли, и повел. Шли мы через какое-то местечко, было 12 часов ночи. Пьяный комендант несколько раз останавливал нас, строил и заставлял петь. Свыше трехсот голосов мужчин нарушало ночную тишину польского местечка. Пели и “Тачанку”, и “Запрягайте хлопцы коней”, но как следует петь не могли. Тогда комендант останавливал, ругался на ломанном русском языке и опять заставлял петь. <...> Всю дорогу по Украине отношение к нам со стороны сопровождающих было, можно сказать, безбожным. По дороге мы замечали, что везде на станциях главенствующую роль играли немцы-железнодорожники» [21, л. 39].
Очутившись в замкнутом пространстве вагона, будущие рабы Третьего рейха уже не могли в нормальных условиях удовлетворить самые примитивные человеческие потребности в еде, воде, сне, тепле, санитарно-гигиеническом уходе, справить естественные надобности и др. На протяжении всего пути зачастую приходилось практически всегда стоять или сидеть на полу. В вагонах делали специальные отверстия в качестве туалетов, но справлять естественные надобности в присутствии большого количества людей, причем разного пола, это было для многих психологическим шоком. К тому же нехватка воды, которую выдавали на нечастых остановках, приводило не только к естественным мучениям от жажды, но и к ужасной антисанитарии. В холодное время года вагоны не отапливались.
Главным испытанием узников товарных вагонов стал голод. Домашние припасы еды, если они были, быстро заканчивались либо изымались по дороге той же охраной: «...поезд в 7 час. вечера отправился из Ростова. Утром мы прибыли в г. Таганрог. Здесь немцы начали отбирать хорошие вещи и продукты. У меня лично отобрали жареного гуся и белый хлеб, что мне мать дала в дорогу. Когда мы начали плакать, то немцы стали нас избивать» [20, л. 42]. Из протокола опроса Н.В. Нагорного, 1908 г. рождения, уроженца г. Таганрога: «Утром мы были в Варшаве, там нас кормили таким же супом, как и везде...» [21, л. 39]. Уроженка г. Новочеркасска, бывшая узница концлагерей Равенсбрюк и Хельмбрехтс Лидия Арсеньева (Попова) вспоминала: «В Кракове была первая большая остановка, нас поселили на пятом этаже большого дома. В первый раз за всю дорогу нас покормили поляки из какого-то благотворительного общества. Мы спускали им на веревке с пятого этажа что-нибудь из своих носильных вещей, а они, сняв их, привязывали пакет с салом и хлебом и маленькой иконкой божьей-матери» [14, с. 223].
Некоторые во время пути находились в таком отчаянии и состоянии стресса, что забывали о чувстве голода: «...мы сидели у бараков и плакали. У нас харчи остались, потому что мы всю дорогу плакали. Мы не кушали. А тут говорили “давайте, девчата, покушайте, а то у нас все равно отберут и выкинут”. Лысые остались, у нас все позабирают. Давайте хоть покушаем, мы говорили, перед смертью» [6, л. 17].
По пути следования могла проводиться дезинфекция одежды, вагонов и организовывался поход в баню, который для женщин и, особенно, молодых девушек, превращался в очередное испытание и унижение личного достоинства. Студентка Ростовского педагогического института Л. Матвиенко вспоминала: «В Лодзи нас обещали накормить, сводить в баню... Под конвоем шли мы по городу, провожаемые сочувственными взглядами прохожих. В бане нам предложили сдать свои вещи в камеру хранения, а одежду – в дезинфекцию. Из раздевалки мы, девушки, должны были проходить через дверь, в которой стояли двое конвойных. По бане бесцеремонно расхаживали немецкие солдаты. Они нагло рассматривали нас, громко ржали и, потеша- ясь, повертывали, ощупывали девушек, награждая их шлепками по голому телу. Помыться не удалось... Утром нас снова втолкнули в те же самые грязные вагоны и повезли дальше» [7, с. 67].
Медицинской помощи в дороге также не оказывалось, а умиравших хоронили на остановках, прямо возле вагонов. Еще в начале 1942 г. Гитлеру докладывали об условиях, при которых происходит транспортировка «восточных рабочих». В частности, министериаль-директор, руководитель V главного отдела в имперском министерстве труда и рабочей группы по использованию рабочей силы в управлении четырехлетним планом В. Манс-фельд заявлял о том, что открытые и неотапливаемые товарные вагоны использовать для перевозки рабочей силы бессмысленно. Это объяснялось тем, что по прибытии в назначенное место из вагонов приходилось выгружать трупы [15].
Как отмечает большинство переживших трагедию рабства Третьего рейха, чем ближе поезд приближался к конечному пункту назначения, тем страшнее становилось от неизвестности за свою судьбу, и тем чаще подчеркивалось, что они люди второго сорта: «На следующий день нас остановили на какой-то товарной станции, вокзала не было видно. Мне бросились в глаза люди, выгружающие бочки из вагонов. Одеты они были в одежду с широкими синими полосами. На голове из такого же полосатого материала шапочка и страшно на ногах цепи. Положение наше изменилось. Если на Украине нас останавливали у вокзалов, то переехав польскую границу, нас стали останавливать вдали от станций, говоря, что люди из эшелона загрязняют вокзалы» [21, л. 39].
Не все угнанные покорно принимали свою судьбу и вполне закономерно, что чем моложе был невольник, тем чаще он пытался убежать. Одним из свидетельств является уже упомянутый выше акт № 793, в котором говорится о об угнанных жителях г. Пролетарска. Во время транспортировки части угнанных советских граждан удалось сбежать. Среди них была жительница г. Сальска по фамилии Безуглова [3, л. 12]. Удачно закончился и побег А.М. Подлужной, 1922 г. рождения, уроженки хутора Важковка Каменского района, которая в феврале 1942 г., доехав в эшелоне до г. Сталино, сбежала и по пути наткнулась на местный партизанский отряд, в ряды которого девушка и вступила [22, л. 63].
Не все побеги молодых людей были удачны. Уроженец Ростова Николай Радионович Зюбенко вместе с тремя товарищами, когда их эшелон прибыл в Днепропетровск, решили устроить побег: «Они из эшелона убежали в село и попросились переночевать у пожилой женщины. Однако, утром их забрали в полицию. Там их били, и, продержав 3 суток, отправили в концлагерь, где уже сидело много мальчиков и девочек. Жизнь в том лагере была очень тяжелой. Подросткам давали 250 гр. хлеба и похлебку, больше в течение дня ничего не давали. Многие из нас не выдерживали и умирали от голода» [20, л. 42]. Также неудачно сложился побег уроженца Красного Сулина Л.А. Руденко, которого с группой подростков пригнали на станцию, загнали в эшелон и отправили на фашистскую каторгу. Вместе с Руденко оказался в эшелоне его друг-одноклассник В. Осикин. В пути «несколько смелых невольников подготовились к побегу. Когда железнодорожный состав мчался по территории Австрии, они ночью взломали дверь вагона и выскочили из него. Среди бежавших были Леня Руденко и Витя Осикин. Фашисты поймали беглецов на другой же день. Под усиленной охраной их отправили на угольную шахту в Фойсберге» [14, с. 88].
Спасти невольников в пути следования могли партизаны. Обычно это происходило на этапах пеших переходов от населенного пункта до станции. Например, партизанский отряд села Марфинка Миллеровского района отбил колонну, состоящую из жителей хутора Селез-невка, которых немцы пытались угнать в Третий рейх [5, с. 113]. Подобные случаи происходили и в окрестностях Пятого Яра, и в Ка-зачковом лесу Кашарского района Ростовской области. На этом участке пролегала шоссейная дорога Миллерово – Вешенская, по которой следовали конвои с «восточными рабочими». Действовавший в этом районе партизанский отряд под командованием Б.Н. Сверто-кина и В.А. Шинкарева не раз спасал угоняемых жителей от конвоировавших их немцев и полицаев-коллаборантов [1, с. 18].
Те мирные жители Ростовской области, которые в результате транспортировки доезжали до конечных пунктов назначения, попадали в распоряжение министерства труда и бюро по использованию рабочей силы. Далее эти трудовые ресурсы распределялись в соответствии с экономическими потребностями Третьего рейха. Самым трагичным было положение тех, кто попадал в концентрационные лагеря, но это уже был другой, еще более жестокий этап в жизни «восточных рабочих» – уроженцев Донского края.
Результаты. Транспортировка мирных жителей Ростовской области на принудительные работы в Третий рейх осуществлялась по железной дороге через территорию Украины и Польши исключительно в товарных вагонах. Теоретически вербовочные комиссии должны были обеспечивать питанием невольников в дороге, однако в действительности главным продуктом в пути, как вспоминают большинство «восточных рабочих», был заплесневелый хлеб, и тот в небольшом количестве, либо домашние припасы, которые чудом удалось сохранить. В пути железнодорожные составы проходили дезинсекционные пункты, обычно их было три: на оккупированной территории, на пограничных станциях и на месте назначения. С мобилизованными немецкая охрана в пути следования обращалась жестоко. Многочисленные заболевания на почве постоянного недоедания, недосыпания, невыносимого холода, постоянного избиения приводили в том числе и к гибели во время следования в Третий рейх. В личных воспоминаниях жителей Ростовской области, переживших нацистскую неволю, представлена вся палитра первых эмоций в условиях психотравмирующей ситуации «вагонной изоляции»: тоска по родным, неизвестность, страх побоев, унижение личного достоинства, ужас смерти, смирение, бунтарство и т. д. Самым страшным для многих была невозможность действовать или не действовать по своей воле. Таким образом, во время транспортировки люди вступали в стадию психоэмоциональной перегрузки, связанной как психофизиологическими стрессорами (голод, недостаток сна, боль), так и с переживанием агрессии и насилия, восприятием своих и чужих страданий, смерти других людей; групповой изоляцией, неопределенностью будущего.
В целом это был первый экстремальный этап, в ходе которого у угнанных на принудительные работы в Третий рейх мирных жителей региона запускался процесс накопления физической и психологической усталости, а также укреплялись представления о том, что «восточные рабочие» – это «недочеловеки», которые пригодны только для обслуживания высшей немецкой расы, и их жизнь не имеет ценности.