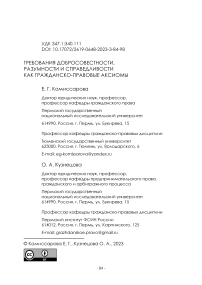Требования добросовестности, разумности и справедливости как гражданско-правовые аксиомы
Автор: Комиссарова Е.Г., Кузнецова О.А.
Журнал: Ex jure @ex-jure
Рубрика: Частноправовые (цивилистические) науки
Статья в выпуске: 3, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу правовой природы требований добросовестности, разумности и справедливости, предусмотренных в пункте 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации для преодоления пробелов права. Установлена необходимость рассмотрения этих требований с метатеоретических методологических позиций, позволяющих охватить разные аспекты их сущности. Требования добросовестности, разумности и справедливости проявляются в гражданском праве как духовно- нравственные основы, принципы, презумпции, правовые нормы, юридические обязанности, критерий толкования правовых норм. Многообразие смысловых оттенков и функций этих требований, а также их тесная связь с моралью и нравственностью, элементарный характер и очевидность позволяют квалифицировать их как гражданско-правовые аксиомы.
Добросовестность, разумность, справедливость, принципы гражданского права, правовые аксиомы
Короткий адрес: https://sciup.org/147241940
IDR: 147241940 | УДК: 347.1:340.111 | DOI: 10.17072/2619-0648-2023-3-84-98
Текст научной статьи Требования добросовестности, разумности и справедливости как гражданско-правовые аксиомы
Э тико-правовые категории добросовестности, разумности и справедливости кажутся присущими самой материи права, характеризуют его цель, ценность и назначение. В связи с этим они постоянно находятся в фокусе внимания представителей как теории права, так и отраслевых юридических наук. Однако наибольший вклад в разработку указанных правовых понятий сделан, безусловно, цивилистами, которые небезосновательно возводят добросовестность, разумность и справедливость в ранг идей, определяющих сущность права частного как в объективном, так и в субъективном смысле. Количество цивилистических исследований, посвященных отдельным аспектам добросовестности, разумности и справедливости, невероятно велико. Правоприменительные акты, в которых в том или ином контексте присутствуют ссылки на добросовестность, разумность и справедливость, исчисляются тысячами.
При этом на метатеоретическом цивилистическом уровне эти категории продолжают оставаться относительно непознанными, предопределяя постановку важных доктринальных и практических вопросов. Что представляют собой требования добросовестности, разумности и справедливости с точки зрения общих положений теории гражданского права? Какова их правовая природа и место в системе источников права? Это требования, принципы, презумпции, правовые идеи, стандарты, юридические максимы, герменевтические инструменты юридической техники, субъективные юридические обязанности или что-то иное? Существует ли понятие, способное вместить все сущностное и содержательное богатство этих многоаспектных категорий, которым приписано качество «категорий с изменяемой геометрией»?
В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) при невозможности использования аналогии за- кона права́ и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости. Из буквального толкования указанного правоположения следует, что, во-первых, требования добросовестности, разумности и справедливости применяются при пробелах в праве (и при невозможности применения аналогии закона); во-вторых, они отличны от аналогии права, то есть не отнесены законодателем к «общим началам и смыслу гражданского законодательства», а следовательно, и к принципам (основным началам) гражданского права. Заметим, что законодательное отграничение принципов права от требований добросовестности, разумности и справедливости хорошо видно в статье 5 Семейного кодекса Российской Фе-дерации2 (далее – СК РФ), которая устанавливает, что при отсутствии норм, подлежащих применению по аналогии закона, «права и обязанности членов семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или гражданского права (аналогия права), а также принципов гуманности, разумности и справедливости». В связи с этим возникает вопрос о правовой природе и назначении требований добросовестности, разумности и справедливости.
В цивилистической доктрине сложилось несколько подходов к оценке этих гражданско-правовых феноменов.
Во-первых, многие ученые эти требования смело относят к числу принципов права, избегая при этом какой-либо дополнительной аргументации такого вывода3. Отмечается, что в пункте 2 статьи 6 ГК РФ принцип добросовестности легитимируется4 и что в этой статье речь идет о добросовестности, разумности и справедливости именно как о принципах права5. Эти требования исследователи объединяют в единый «принцип добросовестности, разумности и справедливо-сти»6. В русле такого подхода высказывались и суды. Высший Арбитражный Суд РФ (далее – ВАС РФ) еще в 2011 году квалифицировал разумность и добросовестность как «основополагающие частноправовые принципы»7.
Во-вторых, требования добросовестности, разумности и справедливости не квалифицируют как самостоятельные феномены, а оцениваются как условия применения аналогии права, некий дополнительный инструмент для применения принципов права по аналогии8. К примеру, отмечается, что «принцип справедливости прямо закреплен в гражданском законодательстве, в пункте 2 статьи 6 ГК РФ, как требование к применению аналогии пра-ва»9. В. В. Кулаков пишет, что добросовестность, разумность и справедливость являются характеристиками поведения, «которые законодатель требует учитывать при применении аналогии права»10. Эти требования называют также критериями применения аналогии права11.
В-третьих, добросовестность, разумность и справедливость выделяют наряду с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, называя их духовно-этическими принципами12.
В-четвертых, добросовестность, разумность и справедливость описывают исключительно как оценочные понятия гражданского права13. В связи с этим пункт 2 статьи 6 ГК РФ назван в литературе дискреционной нормой права, поскольку интерпретация добросовестности, разумности и справедливости «оставлена законодателем на усмотрение субъекта правоприменения»14.
В-пятых, требования добросовестности, разумности и справедливости прямо отграничивают от принципов права. Б. А. Булаевский пишет, что эти требования выступают «определенным “надсистемным” явлением, к которому наряду с аналогией права можно прибегать при пробельности действующего законодательства»15. В другом источнике добросовестность, разум-
_________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ ность и справедливость называются «концептуальными доминантами гражданско-правового регулирования», стоящими «в одном ряду с его основополагающими принципами – равенством участников гражданских правоотношений, неприкосновенностью собственности, свободой договора и др.»16.
Важно заметить, что и законодатель по-разному использует характеристики добросовестности, разумности и справедливости. Так, в статьях 308.3 и 393 ГК РФ упоминается принцип справедливости; в статье 1101, пункте 3 статьи 1252 ГК РФ – требования разумности и справедливости; в пункте 2 статьи 7 Жилищного кодекса РФ17 – требования добросовестности, гуманности, разумности и справедливости. Подчеркнем, что в СК РФ разумность и добросовестность определены именно как принципы права (ст. 5). Эти категории используются лингвистически и в иных юридико-технических контекстах. В частности, ГК РФ указывает на необходимость «справедливого распределения» (ст. 451), «справедливой компенсации» и «разумных мер» (ст. 65.2), «разумного ведения дел» (ст. 72, 76), «разумных сроков» (ст. 157.1, 183, 187), «разумных оснований» (ст. 376), «разумной степени достоверности» (ст. 393), «разумной цены» (ст. 397), на «обязанность действовать разумно и добросовестно» (ст. 53.1, 62, 123.20-7) и «право разумно рассчитывать» (ст. 363).
Многообразны и правоприменительные примеры использования требований добросовестности, разумности и справедливости при разрешении конкретных дел.
Прежде всего, эти требования, по мнению судов, представляют собой обязывающую норму. Если отсутствуют специальные правила к содержанию прав и обязанностей субъектов гражданских правоотношений, то последние должны осуществлять права и исполнять обязанности, сообразуясь с указанными требованиями. Одним из первых правоприменительных актов, подтверждающих данный вывод, стало Постановление Президиума ВАС РФ от 27 апреля 2010 г. № 67/10 по делу № А40 13353/09-158-149, в котором суд констатировал отсутствие специальных, предусмотренных законом правил, определяющих порядок созыва и проведения заседаний совета директоров акционерного общества, однако указал, что это обстоятельство «не исключает необходимости соблюдения требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ)» при принятии соответствующих локальных актов. В связи с этим трудно согласиться с высказанным в комментаторской литературе взглядом о том, что рассматриваемые требования установлены в отношении правоприменителя, а не участников гражданских правоотношений18.
Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) прямо указывает, что «обязанность действовать добросовестно является универсальным гражданско-правовым принципом, получившим свое отражение в нормах действующего права»19. ВАС РФ называл добросовестное и разумное исполнение гражданских обязанностей общими принципами гражданского пра-ва20. Ссылаясь на пункт 2 статьи 6 ГК РФ, ВАС РФ подчеркнул, что «в гражданском обороте лица должны действовать добросовестно»21. Эта обязанность применима ко всем гражданским правоотношениям: «Как и в любых других гражданских правоотношениях, подрядчик при демонтаже конструкций должен действовать исходя из требований добросовестности и разумности (п. 2 ст. 6 ГК РФ)»22.
Требования добросовестности, разумности и справедливости используются судами и для оценки правомерности осуществления установленных законом гражданских прав и обязанностей. К примеру, неначисление финансовым управляющим мораторных процентов до утверждения плана реструктуризации квалифицировано ВС РФ как несогласующееся «с требованиями добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ)» и нарушающее «баланс интересов кредиторов и должника в процедуре несостоя-тельности»23.
Нередко суды используют требования добросовестности, разумности и справедливости как критерии для толкования неясных правовых норм. К примеру, в судебной практике возник вопрос о том, может ли требование кредитора об осуществлении первоначального исполнения в части основного долга быть включено в реестр кредиторов с учетом того, что такой кредитор не участвовал в формировании конкурсной массы. ВС РФ, отвечая на этот вопрос, отметил следующее: «Исходя из принципов добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) требования кредиторов об осуществлении первоначального предоставления в части основного долга должны удовлетворяться после требований как кредиторов третьей очереди, так и “опоздавших” кредиторов... но приоритетно перед лицами, получающими имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве, пункта 8 статьи 63 ГК РФ»24.
Требования добросовестности, разумности и справедливости применяются и при преодолении пробелов в гражданском праве. Одна из самых известных правовых позиций, сформулированных судом с учетом этих требований, содержалась в пункте 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»: «Исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) не может быть обращено взыскание на заложенное движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало и не должно было знать о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога». Это толкование до сих пор активно используется судами.
В рассмотренном примере мы видим, что суд сослался одновременно и на общие начала и смысл гражданского законодательства, и на требования добросовестности, разумности и справедливости. Однако для восполнения правовых пробелов суды ссылаются и только на указанные требования. Так, при ответе на вопрос, могут ли требования по сделкам участника как члена высшего органа управления общества быть включены в реестр кредиторов, была сформулирована следующая правовая позиция: «...в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника ис- ходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов»25.
Таким образом, цивилистическая доктрина, гражданское законодательство и правоприменительная практика «используют» требования добросовестности, разумности и справедливости в разных смыслах и назначениях: как правовой принцип, как этический принцип, как норму-принцип, как принцип-идею, как инструмент толкования, как обязывающую правовую норму, как способ преодоления пробела. При этом каждая гражданско-правовая норма может и должна быть оценена через оптику требований добросовестности, разумности и справедливости.
На наш взгляд, многообразие смысловых оттенков и функций этих требований позволяет говорить о них как о гражданско-правовых аксиомах. Заметим, что в отношении добросовестности такое мнение уже высказано в литературе26.
Необходимость введения в категориальный аппарат правоведения понятия правовых аксиом можно объяснить их философским генезисом27. Будучи общепризнанными и самоочевидными истинами, они возникают и существуют в общественном сознании в качестве морально-этических постулатов, как само собой разумеющиеся требования к праву, которые разделяются всеми участниками общественных отношений и не нуждаются в политико-правовом обосновании или лоббировании. А. И. Экимов писал, что «по своему содержанию аксиомы – не что иное, как простые правила морали справедливости. В них отражается минимум условий, необходимых для совместной жизни людей»28. В связи с этим нарушение правовых аксиом не только недопустимо, но и бессмысленно: их истинность и полезность очевидна каждому.
Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин, определяя смысл и роль конституционных положений, неоднократно говорил, что «над каждой нормой отраслевого законодательства витает животворящая право
_________________________________ ЧАСТНОПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ конституционная норма, в каждой такой норме присутствует влияние норм и принципов конституционного права»29. Точно так же над каждой нормой гражданского права «витает» дух и «животворящая» сила требований добросовестности, разумности и справедливости и в каждой такой норме присутствует их влияние. Эти дух и сила имеют аксиоматический характер.
Учение о правовых аксиомах было разработано в советской теории права. Первоначально их определяли как не нуждающиеся в доказательствах исходные бесспорные постулаты правовой науки. Л. С. Явич писал, что аксиомы права – это элементарные истины, не требующие доказательств30. Г. И. Манов обратил внимание, что они могут быть закреплены и в законодательстве, иметь нормативную природу и представляют собой «простейшие юридические суждения эмпирического уровня, сложившиеся в результате многовекового опыта социальных отношений и взаимодействия человека с окружающей средой»31. В постсоветский период А. В. Масленников, посвятивший аксиомам диссертационное исследование, писал, что «аксиомы права – идеальные фрагменты правовой материи, представляющие собой “сгустки” юридического опыта, объективируемые в законодательстве и используемые в правотворчестве и правореализующей практике без оценки истинности»32.
Аксиомы права тесно связаны с принципами права: и те и другие направлены на постижение логики права. С. С. Алексеев писал, что правовые аксиомы находят свое выражение прежде всего в правовых принципах. К правовым принципам, которые могут быть квалифицированы как аксиомы, ученый относил следующие постулаты: никто не может быть судьей в собственном деле; закон, устанавливающий новую или более строгую ответственность, не имеет обратной силы; нельзя осуждать дважды за одно и то же правонарушение; лицо, привлекаемое к ответственности, признается невиновным до тех пор, пока вина не будет доказана и установлена компетентным органом33.
Отождествление правовых аксиом и принципов неслучайно: и те и другие представляют собой общие руководящие положения, на которых осно-
КОМИССАРОВА Е. Г., КУЗНЕЦОВА О. А. __________________________________________ вывается все законодательство и правовая система в целом, поскольку они отражают наиболее важные социальные ценности.
Вместе с тем между ними есть и определенные различия. Правовые аксиомы в большей степени, чем принципы, связаны с моралью, нравственностью, общечеловеческими ценностями, поэтому «“аксиомы права” по своему содержанию независимы от расклада политических сил в стране, от идеологических и социальных факторов»34. Правовые же принципы всегда отражают тип государства и соответствующего ему права, поэтому их количество, наименование и содержание во многом предопределяются политикой государства и должны быть им обоснованы. Правовые аксиомы в таком обосновании не нуждаются, их истинность бесспорна, доверие к ним разделяется и поддерживается общественным сознанием безусловно. Они «в силу своей простоты и ясности принимаются без доказательств»35, «выражают общечеловеческое содержание права»36, тогда как правовые принципы всегда могут быть предметом дискуссий. Поскольку правовые аксиомы принадлежат в большей степени к нравственности, чем к формальному праву, они старше принципов и сохраняют свое содержание и значимость в различных правовых типах, семьях и системах; их ценность проверена эмпирическим путем, многовековой исторической практикой взаимодействия людей. А. А. Ференс-Сороцкий прямо противопоставлял аксиомы и принципы права, считая, что последние отражают только исторический тип права и объективно изменяются вместе с ним37.
Аксиомы права могут приобретать статус правового принципа. К примеру, требование добросовестного поведения прямо возведено законодателем в ранг принципа гражданского права (п. 3 ст. 1 ГК РФ). Полагаем, что нельзя ограничивать правовые аксиомы исключительно рамками норм пра-ва38. Разумность и справедливость не получили статус нормы-принципа, но отнесение их к принципам-идеям более чем допустимо.
Однако правовые аксиомы – это не только нормы-принципы или принципы-идеи. Есть принципы права, которые не являются правовыми аксиомами, так же как есть правовые аксиомы, не являющиеся принципами права. М. Л. Давыдова выделяет «“единичные”, “одиночные” аксиомы (“общеизвестные факты доказыванию не подлежат”). Эти аксиомы также могут закрепляться нормами нескольких отраслей, но, в силу своего элементарного характера, статус принципа права ни в одной из этих отраслей они не приобретают»39. В гражданском праве к таким «одиночным» аксиомам могут быть отнесены, например, следующие: «обязательство не порождает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон»; «нарушение права должно влечь справедливую компенсацию»; «при отсутствии срока исполнения обязанность должна быть исполнена в разумный срок». Очевидно, что они подчиняются требованиям добросовестности, разумности и справедливости, как бы «произрастают» из них.
Важной характеристикой аксиом права является то, что они не нуждаются в толковании, не могут быть поставлены под сомнение правоприменителями. Как видно из судебной практики, требования добросовестности, разумности и справедливости применяются напрямую, без дополнительного разъяснения и толкования ввиду того, что это общепризнанные истины, понятные и доступные всем: «то, что недопустимо для одной стороны в силу требований добросовестности, разумности и справедливости, закрепленных в пункте 2 статьи 6 Гражданского кодекса РФ, недопустимо и в отношении другой стороны»40.
Квалификация требований добросовестности, разумности и справедливости как правовых аксиом позволяет охватить различные аспекты их законотворческого и правоприменительного потенциала и практического использования. Как верно заметила М. Л. Давыдова, «универсальное, общечеловеческое признание могут получать различные по своей природе правовые явления: принципы, презумпции, институты, нормы, многие из которых несут в себе нравственный, гуманистический заряд»41.
Добросовестность, разумность и справедливость проявляются в гражданском праве и как принципы, и как презумпции, и как «одиночные» пра- вовые нормы, и как юридические обязанности действовать соответствующим образом, и как критерий толкования правовых норм, и как духовнонравственные основы права. При этом их сущность остается неизменной: это общечеловеческие общепризнанные нравственные ценности, полученные эмпирическим путем в процессе развития общества, взаимодействия людей, не вызывающие сомнений в их истинности и необходимости применения, не нуждающиеся в доказательстве обоснования их наличия в праве. Такие ценности априори очевидны для всех, именно поэтому они являются аксиомами.
Выполняя в гражданском праве аксиоматическую функцию, добросовестность, разумность и справедливость объективированы в позитивном праве, указывая на то, что оправданно, нормально, предпочтительно, но при этом сохраняют свое бытие и в необъективированной форме, в сфере правовых идей и моральных установок общества.
Но самое главное, «аксиомы... это своего рода “правила игры”. Если их изменить, то придется “играть” уже в другую игру. Сложившиеся аксиомы определяют лицо права, а в конечном счете характеризуют и его сущность. Они ставят границы поведению человека, заставляют его вести себя так, как это нужно обществу и ему самому как члену общества»42. Признавая добросовестность, разумность и справедливость правовыми аксиомами, мы получаем соответствующее этим требованиям «лицо» и гражданского законодательства, и цивилистической науки, и гражданско-правовых отношений.
Список литературы Требования добросовестности, разумности и справедливости как гражданско-правовые аксиомы
- Алексеев С. С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Т. 1. Свердловск: Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1972.
- Булаевский Б. А. Презумпции как средства правовой охраны интересов участников гражданских правоотношений. М.: ИНФРА-М, 2013.
- Васильев С. В., Старовойтова О. Э. Правовые аксиомы: понятие, виды и значение для практики. Псков: Изд-во Псков. гос. ун-та, 2020.
- Воротников А. А., Баринов П. С. К вопросу о жизнеспособности правовых категорий и аксиом // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 6. С. 11-17.
- Гаджиев Г. А. Новые конституционные ценности: концепция устойчивого экономического роста с точки зрения юридической капитализации // Журнал российского права. 2022. Т. 26, № 1. С. 16-28.
- Экимов А. И. Право в контексте справедливости: к методологии исследования // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 2. С. 60.
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к главам 1-5 / под ред. Л. В. Санниковой. М.: Статут, 2015.
- Гроздилов С. В., Кабанов В. М. Философские основания аксиомы: историческая ретроспектива от Античности до Нового времени // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2021. № 2. С. 145-155.
- Давыдова М. Л. К вопросу о понятии правовых аксиом: теоретические и технико-юридические аспекты // Юридическая техника. 2007. № 1. С. 203-208.
- Давыдова М. Л. Правовые аксиомы как средство юридической техники // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9: Исследования молодых ученых. 2007. № 6. С. 93-98.
- Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития / [Е. Е. Богданова и др.]; под общ. ред. Л. Ю. Василевской. М.: Норма: ИНФРА-М, 2016.
- Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / [С. С. Алексеев и др.]; под ред. С. А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009.
- Конкуренция в рыночной экономике: пределы свободы и ограничений / А. В. Габов, Е. Е. Никитина, С. А. Синицын и др.; отв. ред. А. В. Габов. М.: ИЗиСП: Юриспруденция, 2016.
- Кулаков В. В. Обязательственное право: учеб. пособие. М.: РГУП, 2016.
- Лукьяненко М. Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность, существенность. М.: Статут, 2010.
- Манов Г. И. Аксиомы в советской теории права // Советское государство и право. 1986. № 9. С. 29-36.
- Масленников А. В. Правовые аксиомы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006.
- Масленников А. В., Водяникова Е. В. Правовые аксиомы: содержание и сущность понятия // Вестник КРАГСиУ. Серия: Государство и право. 2013. № 16. С. 10-14.
- Нам К. В. Принцип добросовестности: развитие, система, проблемы теории и практики. М.: Статут, 2019.
- Нормы права: теоретико-правовое исследование / Т. В. Губаева, Л. А. Гумеров, А. В. Краснов и др.; отв. ред. Т. В. Губаева, А. В. Краснов. М.: РАП, 2014.
- Осипенко О. В. Корпоративная конфликтология. М.: Статут, 2022.
- Позднышева Е. В. Расторжение и изменение гражданско-правового договора. М.: ИЗиСП, 2018.
- Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2011.
- Ситдикова Р. И. Обеспечение частных, общественных и публичных интересов авторским правом / науч. ред. М. Ю. Челышев. М.: Статут, 2013.
- Смирнова А. В. О соотношении понятий «принципы права», «аксиомы права» и «правовые презумпции» // Право и государство: теория и практика. 2020. № 4. С. 25-29.
- Томтосов А. А. Цена гражданско-правового договора. М.: Юстицин-форм, 2023.
- Федин И. Г. Добросовестность как правовая категория // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 4. С. 21-30.
- Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы в праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1988. № 5. С. 27-31.
- Ференс-Сороцкий А. А. Аксиомы и принципы гражданско-процессуального права: дис. ... канд. юрид. наук. Л., 1989.
- Хохлов В. А. Общие положения об обязательствах: учеб. пособие. М.: Статут, 2015.
- Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.
- Экимов А. И. Право в контексте справедливости: к методологии исследования // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 2. С. 51-61.
- ЯвичЛ. С. Общая теория права / под ред. А. И. Королева. Л.: Изд-во ЛГУ, 1976.