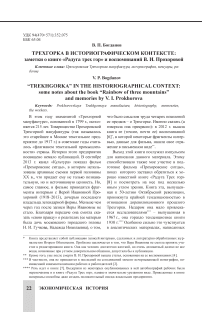Трехгорка в историографическом контексте: заметки о книге «Радуга трех гор» и воспоминаний В. И. Прохоровой
Автор: Богданов Владимир Павлович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История и теория экономики
Статья в выпуске: 1 (24), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается Трехгорская мануфактура в заметках книги «Радуга трех гор» и воспоминаний В. И. Прохоровой.
Прохоровская трехгорная мануфактура, историография, мемуары, рабочие, memoкries the workers
Короткий адрес: https://sciup.org/14723700
IDR: 14723700 | УДК: 94(470+571):352.075
Текст научной статьи Трехгорка в историографическом контексте: заметки о книге «Радуга трех гор» и воспоминаний В. И. Прохоровой
В этом году знаменитой «Трехгорной мануфактуре», основанной в 1799 г., исполняется 215 лет. Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры (так называлось это старейшее в Москве текстильное предприятие до 1917 г.) в советские годы считалось «флагманом текстильной промышленности» страны. Истории этого предприятия посвящено немало публикаций. В сентябре 2013 г. канал «Культура» показал фильм «Прохоровские ситцы», в котором использованы архивные съемки первой половины XX в., что придает ему не только познавательную, но и источниковую ценность. Но, самое главное, в фильме приводятся фрагменты интервью с Верой Ивановной Прохоровой (1918–2013), дочерью последнего владельца легендарной фирмы. Меньше чем через год после записи Веры Ивановны не стало. Благодаря передаче она смогла сказать «свою правду» о родителях (ее матерью была дочь московского городского головы Н. И. Гучкова, Надежда Николаевна), о том, что было смыслом труда четырех поколений ее предков – о Трехгорке. Именно сказать (а говорила она прекрасно): в 2012 г. вышла книга ее (точнее, почти ее) воспоминаний [6]*, в которой некоторые фрагменты интервью, данные для фильма, нашли свое отражение в письменном виде**.
Выход этой книги послужил импульсом для написания данного материала. Этому способствовало также мое участие в подготовке фильма «Прохоровские ситцы», показ которого заставил обратиться к хорошо известной книге «Радуга Трех гор» [8] и посмотреть на нее под несколько иным углом зрения. Книга эта, выпущенная к 50-летию Октябрьской революции, проникнута крайней тенденциозностью в отношении дореволюционного прошлого Трехгорки. Недаром она мало привлекается исследователями*** – выпущенная в 1967 г., она гораздо тенденциознее книги 1930 г.**** Особенно сильно это чувствуется в аналитических материалах, написанных профессиональными историками. Идеологическая предвзятость составителей юбилейного издания приводила к замалчиванию факта высокой развитости системы социального обеспечения при прохоров-ском предприятии. Ведь при Трехгорке существовала целая сеть учреждений социальной направленности. Это не только пресловутые казармы для рабочих (без которых не могла функционировать ни одна фабрика), описанные исключительно в негативном свете, но и ясли, детские сады, школы, училище, больница, роддом, дома отдыха и т. д. [11]. Составители книги соответствующим образом подбирали и публикуемые документы. Вместе с тем внимательное чтение материалов книги показывает, что не все было так однозначно и в ряде случаев в них проскальзывает смысл, который явно не работает на идею книги. Тут примечательно, что о Трехгорке посчитали нужным рассказать свою правду не только рядовые рабочие, но и председатель президиума Всесоюзной торговой палаты М. В. Нестеров, и народный артист СССР Н. А. Крючков, и сестра поэта Л. В. Маяковская... Интервью и воспоминания В. И. Прохоровой вписывают эти идеологические несоответствия в совсем иной контекст.
Приведем пример. Вот как мемуаристы описывают общежитие: «На нарах лежал хозяйский матрац – мешковина, набитая соломой. Простыни почти ни у кого не было. Правда, старики рассказывают, что в 1892 г., когда вспыхнула эпидемия холеры, Прохоров распорядился выдать по одеялу, простыне и наволочке, но и здесь он не преминул содрать с рабочего последнюю шкуру – вычел за “добро” 1 рубль 75 копеек, тогда как красная цена этому хламу на рынке была до рубля» [8, с. 63, Румянцев Ф., рабочий складального цеха; попал на Трехгорку в 1905 г.]. Подобную же картину дают и воспоминания
Е. Овчинникова (рабочий-стригальщик), О. Дудалева (ткач), попавших на Трехгорку в 1892 г. Однако все они принадлежат рабочим, в первом поколении трудившимся на фабрике, или вообще «сезонным» (для них-то и служила «Сороковая» спальня), но никак не кадровому контингенту дореволюционной Трехгорки. При этом оказывается, что при фирме существовали отдельные общежития для холостых, семейных и семейных с детьми [8, с. 62–63, Овчинников Е.], что уже свидетельствует о развитости социальной системы. К началу XX в. на предприятии работали целые династии, насчитывавшие три–пять поколений! В частности, в «Радуге Трех гор» приводится история семьи Фенягиных, чей родоначальник, Николай, пришел «на Три горы в тот самый год, когда здесь было основано ситценабивное заведение» [8, с. 172].
А вот рассказ рабочего второго поколения:
«Когда отец приехал в Москву, мне было шесть с половиной лет. Вскоре меня отдали в начальную школу* при Прохоровской фабрике, а в 1892 году, по окончании этой школы, я поступил в школу ремесленных учеников при той же фабрике. Пока учился в начальной школе, жил дома; с переходом в ремесленную школу стал жить в общежитии… В школе телесных наказаний не было, но было в ходу мордобитие…
В школе день проходил так: с 6 часов утра до 3 часов дня с перерывом на обед ученики работали на производстве, а вечером учились. Программа по теории для всех была одинаковая, специальность вырабатывалась на производстве в утренние часы.
Я окончил школу в 1897 г. Хозяин обычно, не желая пускать учеников в массу, снимал для них отдельные квартиры…» [8, с. 67–68. Иванов В., рабочий граверного цеха].
Из этих воспоминаний мы узнаем, что вновь пришедший рабочий мог устроить сына в школу при фабрике, в которой тот учился пять лет. При этом выпускники школы оставались работать при фабрике и им снимали отдельные квартиры! Данный факт, хотя и подан в негативном свете, но сам по себе говорит скорее в пользу эффективности системы социального обеспечения на прохоровских фабриках. Впрочем, ответ на то, почему Прохоров не желал «пускать учеников в массу» дан в этой же книге: «настроение рабочих было обыкновенно – от получки до получки. Как только получка, так они в трактир. Трактиры тут были на каждом шагу. И вот, как с работы под праздник (а другие охотники были и в будни), шли в трактир» [8, с. 66. Дуда-лев О. (ткач)]. Или: «Собрались мастера и меня пригласили. Ну, выпили, закусили. Я раньше до этого никогда не пил, на этот раз выпил много. Очень нехорошо мне было, тошнило, рвоты были, но с тех пор стал выпивать» [8, с. 66. Бахвалов В., резчик]. Иными словами, хозяева Трехгорки старались оградить квалифицированных рабочих от влияния остальной массы, нравы которой могли оставлять желать лучшего.
В то же время в отдельных частях книги проскальзывает уважительное отношение рабочих к хозяевам. Вот как описывается праздничный день: «Рабочие расступились. Прошел шепот:
– Хозяин едет…
Из автомобиля вышел высокий молодой хозяин Прохоров, за ним жена и мать в темно-синих шляпах… Рабочие кланялись хозяевам в пояс. Они кивали головами, кланяясь во все стороны» [8, с. 71. Крылова Л. Старое и новое].
Перед нами старинный обычай поясных поклонов. При этом и европеизированные хозяева отвечают на эти поклоны (правда, только киванием головами). То есть налицо уважение, которое хозяева испытывают к рабочим. «Кланяясь в разные стороны», они стараются никого не обидеть невнима- нием. Факт внимательного, уважительного отношения к подчиненным красноречивее всего иллюстрируется воспоминаниями М. Нестерова*:
«Родственники сестры отвели меня к заведующему главной конторой “Прохоровки” – попросили принять в конторские ученики. Мне было тогда пятнадцать лет.
Всех новых служащих хозяин фабрики Н. И. Прохоров принимал лично. Это был респектабельный мужчина, с высшим юридическим образованием, владелец не только “Трехгорной мануфактуры”, но и Ярцевской фабрики и антрацитовых рудников в Донбассе…
Каждое утро хозяин появлялся в конторе на час-полтора. Его кабинет отделяла от конторских помещений стеклянная стенка, так что, сидя в кабинете, он видел, что делается в конторе. Прохоров подписывал бумаги, отдавал распоряжения, потом обходил фабрики.
Вызвав меня к себе, Прохоров подробно расспросил и взял на работу. Оклад установил 25 рублей в месяц. Так в 1908 г. началась на “Прохоровке” моя трудовая жизнь.
…Но Прохоров, по-видимому, дорожил моим трудолюбием и знаниями. Через год мне даже прибавили жалование. Эта прибавка сыграла большую роль в моей жизни. Как и прежде, все жалование я отдавал матери… а прибавку – девять рублей – вносил за обучение на курса, стал готовиться на аттестат зрелости.
…И вот, наконец, курсы окончены. Понадобился отпуск для сдачи экзаменов. Но прямо сказать Прохорову об этом было боязно.
За время подготовки к экзаменам от недосыпания и переутомления я сильно похудел, выглядел измученным, больным… Наконец, решился – пошел к Прохорову:
– Николай Иванович, разрешите мне два месяца отдохнуть…
Прохоров поглядел на меня, помолчал, потом предложил:
– Зачем тебе отпуск? Переведу-ка я тебя временно на Ярцевскую фабрику. Работы там меньше, будешь жить на природе, отдохнешь…
Но я настаивал на отпуске. Тогда Прохоров сделал другое предложение:
– Не хочешь в Ярцево, поезжай в Снежное, в Донбасс. Там совсем мало дела.
Мой отказ и от этой барской милости взбесил Прохорова. Лицо его стало багровым. Но отпуск он все же дал и даже, к моему удивлению, приказал бухгалтеру выплатить деньги.
…Поступил в Коммерческий (ныне Плехановский) институт. Этот институт привлекал меня еще и тем, что там можно было посещать вечерние лекции.
Купив себе студенческую форму, снова пришел на “Трехгорку”. И хотя сильно просрочил отпуск, конторка, за которой я прежде работал, пустовала. Мое появление, да еще в студенческой тужурке всех удивило.
Прохоров, появившись в конторе, пальцем поманил меня в кабинет.
– Зачем понадобился вам этот маскарад? – спросил он, указывая на мой костюм.
– Извините, но я студент.
– Не может этого быть!
Протянул ему студенческий билет. Реакция Прохорова была неожиданной. Хозяин стал возмущаться “балбесом” – так он назвал своего сынка…
Я попросил:
– Разрешите приступать к работе?
После паузы Прохоров сказал:
– Приступай, – и добавил, – пусть у нас в конторе будет свой ученый…
Так стал я совмещать работу в конторе Прохорова с учением». [8, c. 261–265, Нестеров М. Из прошлого]
Первое, что обращает на себя внимание: «всех новых служащих» (даже конторских учеников) Н. И. Прохоров экзаменует лично. При этом ин- тересно, что его кабинет был отделен от конторы только стеклянной перегородкой. То есть он опять же лично следил за тем, что происходит. Оклад в 25 руб. в месяц для начинающего служащего был далеко не маленьким (о чем ниже). В 1908 г. средний годовой номинальный заработок фабричного рабочего составлял 236,2 руб. (реальный – 228,6 руб.) [10]; месячная заработная плата чернорабочего в это время составляла 26–27 руб. [1]. Небрежная фраза об окладе создает впечатление «барского подарка», сделанного Прохоровым. Но в 1967 г. были живы люди, хорошо помнившие дореволюционные зарплаты. При желании можно было обратиться к трудам С. Г. Струмилина и П. И. Лященко. Таким образом, начинающий, но подающий надежды конторщик на Трехгорке получал зарплату, превосходившую среднюю. К тому же Нестерову через год зарплату повысили до 34 руб.! При этом Н. И. Прохоров, имевший высшее юридическое образование, с пониманием относился к подготовке к экзаменам молодого специалиста, старался облегчить его работу и даже (хотя и скрепя сердце) предоставил ему отпуск, который к тому же Нестеров просрочил. Последнее тем более показательно, поскольку Прохоров, несмотря на нарушение договоренности, оставил конторское место за ним. То, что хозяин явно рационально подходил к делу, видно даже по его стремлению не давать отпуск Нестерову, а занять его более легкой работой. Просроченный отпуск – достаточное основание для увольнения – был прощен Нестерову, что явно свидетельствует о симпатии к нему со стороны Прохорова. Видимо, он считал, что даже провинившийся Нестеров, реализовавший свою мечту поступить в институт, может принести фирме больше пользы, чем нанятый новый человек. При этом Прохорову явно понравилось стремление служащего получить высшее образование. Создается впечатление, что М. В. Нестеров был благодарен Н. И. Прохорову и привел факты положительного участия последнего в своей судьбе, завуалировав их под негативную лексику*.
Здесь следует вернуться к воспоминаниям Веры Ивановны Прохоровой, внучки Н. И. Прохорова, для которой память о деде и отце была очень важна. Она чрезвычайно гордилась отношением к ним рабочих. Она очень внимательно изучила статью Л. И. Бородкина и Е. И. Сафоновой [3], в которой рассказывалось о положении Трехгорки в годы Гражданской войны и приводилось документальное подтверждение эпизоду, о котором она знала со слов близких, – аресте ее отца в 1918 г., когда рабочие вступились за прежнего владельца! Она вспоминала, как рабочие хоронили ее отца: они несли на руках его гроб с Трехгорки до Ваганьковского кладбища, а затем собрали деньги для его осиротевшей семьи (вдова как лишенка работать не могла). Возника- ет вопрос: почему же рабочие выразили такое почтение к бывшему хозяину через десять лет после революции? Ответ, как ни странно, можно найти не только в воспоминаниях В. И. Прохоровой (которые, не зная действительного положения вещей, можно было бы назвать идиллическими), но и в «Радуге Трех гор»… Книга эта, несмотря на то, что ее материалы выполняли важный социальный заказ (показывали взаимоотношения рабочих и хозяев фирмы в негативном свете), при внимательном чтении способна создать обратный эффект. Книга показывает не только разветвленную сеть социального обеспечения, но и личное участие Прохоровых в ее создании, их участие в судьбах рабочих Трехгорки**. Эти объективные (и однозначно положительные) факты проступают даже через заведомо негативный контекст.
Список литературы Трехгорка в историографическом контексте: заметки о книге «Радуга трех гор» и воспоминаний В. И. Прохоровой
- Бородкин Л. И. Неравенство доходов в период индустриальной революции. Универсальна ли гипотеза о кривой Кузнеца?/Л. И. Бородкин//Россия и мир. Памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина: сб. ст. -М., 2001. -С. 331-355.
- Бородкин Л. И. «Не рублем единым»: трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России/Л. И. Бородкин, Т. Я. Валетов, Ю. Б. Смирнова, И. В. Шильникова. -М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2010.
- Бородкин Л. И. Трехгорка на пути от 1917 г. к нэпу: эволюция трудовых отношений/Л. И. Бородкин, Е. И. Сафонова//Экономическая история. Обозрение. М., 2003. Вып. 9. С. 59-73.
- Кокорева Е. Д. Прохоровы в Царицыне. По воспоминаниям Веры Ивановны Прохоровой (1918-2013)/Е. Д. Кокорева//Московский журнал. История государства российского. -2013. -№ 9 (272), сент. -С. 72-85.
- Майский И. М. Воспоминания советского дипломата, 1925-1945 гг./И. М. Майский. -М.: Наука, 1971.
- Прохорова В. И. Четыре друга на фоне столетия/В. И. Прохорова. -М.: Астрель, 2012.
- Рабочие Трехгорной мануфактуры в 1905 году. -М.: Изд-во Коммунист. акад., 1930.
- Радуга Трех гор. Из биографии одного рабочего коллектива. -М., 1967.
- Рожкова М. К. Трехгорная мануфактура ко времени революции 1905 года/М. К. Рожкова//Рабочие Трехгорной мануфактуры в 1905 году. -М., 1930.
- Струмилин С. Г. Очерки экономической истории России и СССР/С. Г. Струмилин. -М., 1966.
- Терентьев П. Н. Прохоровы. Материалы к истории Прохоровской Трехгорной мануфактуры и торгово-промышленной деятельности Прохоровых/П. Н. Терентьев. -М., 1996.