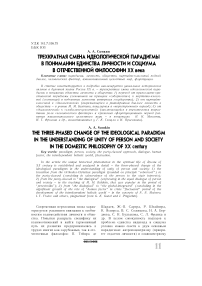Трехкратная смена идеологической парадигмы в понимании единства личности и социума в отечественной философии ХХ века
Автор: Сомкин Александр Алексеевич
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 1 (9), 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье констатируется и подробно анализируется уникальное историческое явление в духовной жизни России ХХ века - трехкратная смена идеологической парадигмы в понимании единства личности и общества: 1) переход от православно-христианской парадигмы (основанной на принципе «соборности») к партийно-классовой (состоящей в подчинении личности интересам государства); 2) от партийно-классовой к «диалогической» (выражающейся в равноправном диалоге личности и общества - в учении М.М. Бахтина, популярном в «перестроечный» период); 3) от «диалогической» к «глобально-целостной» (заключающейся в значительном возрастании роли «человеческого фактора» в кризисный «флуктуационный» период развития взаимозависимого целостного мира - в концепциях Н.Н. Моисеева, И.Т. Фролова и др., заимствованных у Г.К. Гюнцля и И. Пригожина).
Парадигма, личность, общество, партийно-классовый подход, диалог, человеческий фактор, взаимозависимый целостный мир, флуктуация
Короткий адрес: https://sciup.org/14720546
IDR: 14720546 | УДК: 141.7:316.75
Текст научной статьи Трехкратная смена идеологической парадигмы в понимании единства личности и социума в отечественной философии ХХ века
In the article the unique historical phenomenon in the spiritual life of Russia of XX century is established and analyzed in detail — the three-phased change of the ideological paradigms in the understanding of unity of person and society: 1) the transition from the Orthodox-Christian paradigm (founded on principle “sobornost”’) to the party-classed (consisting in subservience of the person to the state interests);
-
2) from tthe party-classed tto “the dialogical’’ ((expressing i in tthe €equal dialogue of person and society — in the teaching of M. M. Bakhtin, that was popular in the period of “perestroika”); 3) from “the dialogical’’ to “the global-integrated’’ (concluding in the significant growth of the role of “human factor" in crisis “fluctuated" period of the development of the interdependent holistic world — in the concepts of N. N. Moiseev, I. 7 T. Frolov GandGothers, plagiarized from c G. K. c Gunzlaand1I. Prigozhin).
Современная переломная эпоха характеризуется усилением внимания к особенностям взаимодействия личности и общества. Попытки раскрыть специфику их взаимоотношений и найти гармоничный путь их развития предпринимались в трудах многих как зарубежных, так и отечественных философов: П. Тейяра де
Шарден, Ж.-П. Сартра, Р. Штайнера, К. Ясперса, В. С. Соловьева, Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка и др. В целом совокупность подходов к проблеме единства индивида и социума условно можно свести к двум основным парадигмам: антропоцентризму (приоритет отдается личности) и социоцентризму
ФИЛОСОФИЯ
(благо общества в ущерб индивидуальному развитию).
Впервые понятие «парадигма» (от греч. «сверхобразец») использовалось Платоном для обозначения вечного и неизменного трансцендентного образца, предопределяющего структуру и форму материальных вещей. В философию науки оно вошло в XX в. благодаря работам философа-позитивиста Г. Бергмана и применялось им для характеристики постоянно меняющихся методологических стандартов исследования. Конкретно-историческую трактовку данного понятия предложил американский философ Т. Кун. По его мнению, парадигма — это какая-либо концептуальная схема, выступающая в качестве нормативной основы для практической деятельности научного сообщества в исторически ограниченный период времени. Такой период закономерно завершается очередной научной революцией в естествознании и скачкообразной заменой устаревшей парадигмы новой, более прогрессивной.
В силу универсальной применимости парадигмальный подход относится к общенаучному уровню познания. Среди основных его принципов можно выделить следующие: 1) принцип системно-целостного строения зрелой парадигмы ; 2) принцип научной эвристичности пара- дигмы, заключающейся в ее способности решать новые познавательные проблемы (каждая парадигма существует до тех пор, пока не утратит эвристическую способность); 3) принцип доминирования одной парадигмы, предполагающей наличие господствующего теоретико-нормативного образца, в соответствии с которым строятся исследования ученых (научного сообщества); 4) принцип временной ограниченности существования парадигмы, выражающий определенную длительность ее доминирования, в рамках конкретного исторического периода (периода «нормальной (нормативной) науки»); 5) принцип революционной смены парадигм, закономерно происходящей в результате коренной ломки устоявшихся научных представлений (методологий, теорий, ценностных и мировоззренческих установок и в конечном счете научной картины мира в целом) и ведущей к их замене новыми; 6) принцип качественной несоизмеримости парадигм, означающий, что каждая новая парадигма представляет собой иное видение мира по сравнению с предшествующей [1].
Процесс возникновения новой парадигмы схематически можно представить в виде логически упорядоченных ступеней (табл. 1).
Таблица 1*
|
№ |
Фаза генезиса новой парадигмы и их содержательная специфика |
|
1 2 3 4 5 6 7 |
Появление новых открытий (или необъяснимых фактов) в науке (или в определенной научной отрасли, дисциплине) Возникновение противоречия между новыми фактами и старыми (устоявшимися, традиционными) знаниями Выдвижение новых гипотез Удачное применение (подтверждение) гипотез к решению отдельных прикладных проблем (т. е. получение «общепризнанных образцов») Создание целостной концептуальной модели (новой картины) мира в целом Формулировка символических обобщений концептуальной модели (в виде математических формул и т. п.) Возникновение ценностных установок (новой традиции) на использование данной парадигмы научным сообществом |
* Приводится по: Ермолаева О. А. Основные принципы, методы и уровни современного парадигмального подхода // Вестн. ИНГУ им. Н. И. Лобачевского [Н. Новгород]. 2008. № 1 (9). С. 165.
ГУМА1Н1АРНЙ: а к туальн ы е
ПРОБЛЕМЫ
Возрастающий интерес к учению Т. Куна в настоящее время обусловлен еще и тем, что сфера его теоретико-прикладного применения не ограничивается исследованием научных революций в естествознании. Большую продуктивность он показывает и в изучении переломных этапов в развитии духовной и социальной сфер жизнедеятельности общества, приобретая, таким образом, не только общенаучный, но и социально-философский статус.
Так, на основе парадигмального подхода нами констатировано уникальное историческое явление в духовной жизни России второй половины XX в. — трехкратная смена идеологической парадигмы в понимании единства личности и общества: 1) переход от православно-христианской парадигмы (основанной на принципе «соборности») к партийно-классовой (состоящей в подчинении личности интересам государства); 2) от партийно-классовой к «диалогической» (выражающейся в равноправном диалоге личности и общества — в учении М. М. Бахтина, популярном в «перестроечный» период); 3) от <«диалогической» к < «глобально-целостной» (заключающейся в значительном возрастании роли «человеческого фактора» в кризисный «флуктуационный» период развития взаимозависимого целостного мира —в концепциях Н. Н. Моисеева, И. Т. Фролова и др., заимствованных у Г. К. Гюнцля и И. Пригожина).
Необходимо отметить, что возможность закономерных скачкообразных коренных качественных сдвигов в общественном развитии была научно обоснована австрийским философом Г. К. Гюнцлем [2, S. 63]. Он выделил следующие этапы этого процесса: новое время (назревание объективных условий для качественных перемен); новое мышление (осознание необходимости этих перемен передовыми мыслителями, идеологами); новое общественное сознание (принятие массовым сознанием ценностных установок на перемены); новый этап интеграционного развития общества (сознательно проводимые преобразования).
Эта концепция находит подтверждение как в исторически более ранние периоды развития российского общества (переход от самодержавного мироустройства к социалистическому), так и в процессах, протекающих в нашей стране в настоящее время (отход в эпоху «перестройки» от социализма и, на современном этапе, либерально-демократические реформы).
Рассмотрим данные переломные этапы подробнее.
Так, социальный идеал общественного устройства в русской религиозной философии основан на идее всеединства, соборности, общинности (Н. А. Бердяев, Л. П. Карсавин, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, A. С. Хомяков и др.). Речь идет о стремлении к целостности, когда бытие личности и общества полагается как совершенное единство (при этом отнюдь не однородное), состоящее из разнообразных и дополняющих (гармоничных) друг друга частей. Возможно это на пути преображения тварного (социального и природного) мира на основе собирательной и устроительной (космической) деятельности человека («общее дело» Н. Ф. Федорова, православная «политэкономия» С. Н. Булгакова и др.).
Поэтому подлинно нравственная задача переносит нас в область исторического существования общества. Так, например, B. С. Соловьев утверждает, что разрыв между личностью и обществом —«лишь болезненный обман сознания». Поскольку «общество есть дополненная, или расширенная личность, а личность — сжатое, или сосредоточенное общество» [3, с. 65]. «И вся история —только развитие личнообщественной жизни, становление человека как личностно-общественного существа», которое «начавшись с царства силы, пройдя через царство закона, должно прийти к царству личности или благотворения» [4, с. 175]. Воплощенная в этом утверждении В. С. Соловьева мысль о том, что заканчивается необычайно длительный период в истории отдельных стран и народов и на смену ему идет принципиально новый период истории человеческой цивилизации — соборное ми- ровое сообщество, — является стержнем глобализации всемирной истории во всей русской религиозной философии.
Идеал разумного органического всеединства, распространенный на общественное развитие, придал русской философской традиции характерные черты прогрессивного историзма. Таким образом, при всем многообразии персональных конкретизаций следует говорить о целостной системе взглядов, которые имеют общее концептуальное ядро и направленность (т. е. о сформированной православно-христианской парадигме). Ее главными ценностными установками являются: 1) органичное и свободно принимаемое миротворчество (объединение и устроение общества на христианских началах); 2) правовой нигилизм (социальная справедливость выше закона) и 3) антиутилитаризм (аскетизм и нестяжа-тельство как цель и смысл жизни).
Однако необходимо констатировать, что социальная практика реализации идеала соборности неясна, оставаясь в лучшем случае уделом глубокой мыслительной работы отдельного индивида. Потому и путь ее общественного воплощения, в основе которого лежат требования высокой степени нравственности, может быть любым. Весь исторический опыт, в том числе России, свидетельствует, что попытки реализации утопий рано или поздно оборачиваются насилием над другими людьми, обществом и природой, которых пытаются «привести в соответствие с идеалом».
Моральный максимализм в жизни оборачивается правовым нигилизмом и произволом. А слова о том, что соборность не исключает личной свободы и ответственности без представлений о конкретных гарантиях и способах их реализации в действительности, оказываются лишь благой декларацией. Акцент при этом делается именно на соборности, когда, по словам С. Н. Трубецкого, «я по поводу всего держу внутри себя собор со всеми» [5, с 188]. Комментируя это высказывание, Г. Г. Шпет замечал, что «хитро не собор со всеми держать, а себя найти помимо собора и в самом соборе», иначе личность «распускается как кусок масла на сковородке» [цит. по 6, с. 88].
Русская религиозно-нравственная философия оказалась несостоятельной в решении назревающих глубоких экономических, политических и общественных противоречий. Ее традиционное отождествление должного и сущего оборачивалось отрицанием реального мира, стремлением к прыжку из него в иной, ноуменальный мир абстрактной соборности, всеединства и симфоничности. Идеал будущей совершенной государственности виделся в теократии. Несоответствие требований жизни предлагаемым онтологическим и гносеологическим моделям привело к идеологическому и политическому краху.
Однако пришедший на смену православно-христианской парадигме марксизм и диалектический материализм унаследовал от нее многие типологические черты. Отвечая на вопрос о специфике взаимодействия и взаимообусловленности общества и личности, К. Маркс писал: «Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это —учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан...» [7, с. 2] (курсив наш. — А. С.). Казалось бы, человек поставлен здесь на первое место.
Несмотря на это, в отечественной социальной философии советской эпохи, как это ни странно звучит в свете вышесказанного, возобладал последовательный социологизм, рассматривающий людей именно и только в качестве «продуктов обстоятельств и воспитания». Попытка объяснить это исключительно следствием господства тоталитаризма оказывается далеко не исчерпывающей. Дело в том, что в российском мировосприятии сильны традиции, которые веками складывались в коллективистском сознании крестьянской общины. Социоцентризм из поколения в поколение формировался общиной,
ГУМА1Н1АРНЙ: а к туальн ы е
ПРОБЛЕМЫ патриархальной семьей, патриархальносамодержавным государством (см., например, работы Г. Л. Тульчинского, В. И. Холодного, Чжао Яня и др.).
Идеология, формируемая этими институтами, состоит из утверждения безусловного приоритета общественного перед частным. Все стороны жизнедеятельности человека —экономическая, политическая, духовная —регулируются ей, приобретая соответствующее воплощение. Подавление личного коллективным универсально и проникает во все сферы социального бытия. (Видимо, этим объясняется и то, насколько крепко прижился марксизм в общественном сознании нашего народа. Его корни формировались веками.)
Черты социоцентризма мы находим и в предшествующей русской религиозной философии. Так, согласно карсавинской антропологии, человек становится личностью лишь по мере его вхождения в иерархически организованные структуры —«симфонические личности» типа церкви, нации, класса, общества, которые только и обладают личностными началом. Тем самым индивид не только утрачивает самостоятельность и самоценность, но и лишается непосредствен- ного отношения к Богу, и может осуществить его лишь «по инстанции» —через посредство высших личностей [8, с. 362].
Если в метафизике В. С. Соловьева (так и не преодолевшей «отвлеченных начал») человека нет вообще, то у Л. П. Карсавина человек низведен до средства, социального материала, лишенного индивидуальной неповторимости. Не случайно, апеллируя к идеалу «симфонической личности», он вместе с духовно руководимыми им евразийцами (Л. Н. Гумилеввым, Н. С. Трубецким, Г. В. Флоровским и др.) отвергал принцип демократии в пользу корпоративных социальных форм, основанных на жестком иерархическом подчинении индивида общественным образованиям. К этим предпочтительным формам он относил и «некоторые формы диктатуры, как коммунизм и фашизм». Претензия на тотальную идеологию —характерная черта вообще всей философии начала века (фрейдизм, феноменология, позитивизм, прагматизм, бихевиоризм —тому яркие примеры).
Можно указать на ряд сходных черт, присущих как русской религиозной философии, так и диалектическому материализму (табл. 2). Таким образом, можно
Таблица 2
Общие типологические черты православно-христианской и партийно-классовой парадигм
|
Православнохристианская парадигма |
Общие характерологические черты |
Классово-партийная парадигма |
|
В угоду общины, церкви |
Социоцентризм (признание первичности социальной природы личности) |
В угоду интересам класса, партии |
|
Переход к всеединству, соборности и богочелове-честву |
Историзм (неизбежность смены одной стадии общественного развития другой) |
Переход к социализму |
|
Соборное мировое сооб- |
Прогрессизм (вера в возмож- |
Единое коммунистическое |
|
щество |
ность создания более совершенных общественных отношений) |
общество |
|
Признание исключительной (богоизбранной) роли русского народа как объединителя всего человечества (Москва — Третий Рим) |
Мессианство |
Признание необходимости мировой социалистической революции, упразднения национальных государств и их объединения в единое мировое пролетарское общество |
ФИЛОСОФИЯ сделать вывод о том, что они выступают вариантами более общей социоцентристской парадигмы.
При этом недопустимо недооценивать революционность марксистского социоцентризма в понимании сущности единства личности и социума для дальнейшего развития философской науки. Его главная заслуга заключается в решительном отходе от метафизического исследования взаимосвязи человека и общества. Оценивания важность вклада К. Маркса в развитие философии человека, В.С. Барулин отметил: «В чем-то методологическое влияние социальной философии марксизма на понимание человека аналогично влиянию христианской доктрины. Там так же одновременно открывались и новые ориентиры, горизонты постижения человека и его связи с Богом и тут же устанавливались границы —опять же в связи с Богом. Так и социальная философия марксизма, открыв новые горизонты понимания человека в его общественной жизни, эти же горизонты объявила их пределами » [9, с. 23—24] (курсив наш. — А. С.).
Таким образом, квалифицируя общую направленность философии «советского периода», мы вслед за Н. В. Казаковой будем условно определять ее как «классово-партийный социоцентризм». Ему присущи следующие черты: 1) концентрация основного внимания на социально-философских вопросах; 2) партийно-классовый подход, основанный на признании борьбы двух главных философских направлений: идеализма и материализма (воинствующий материализм и атеизм); 3) формационный подход (на основе теории Маркса о социально-экономических формациях, конституирующих общественный строй на определенном этапе исторического развития); 4) отрыв социального от биологического и принижение роли последнего в понимании человека; 5) нивелирование значения отдельно взятой личности, восприятие человека как средства достижения исторических целей, поставленных коммунистической партией, а не как самоцели общественного развития [10, с. 112].
Характеризуя эту эпоху в целом, мы можем сделать вывод о том, что главное направление развития советской (в том числе социальной) философии осуществлялось в жестких рамках марксистской парадигмы, которая, с одной стороны, сковывала, с другой —задавала четкие теоретические «правила игры», нарушение которых каралось научным остракизмом.
Вместе с тем следует отметить, что не все было так плохо, как преподносилось нам в последние десятилетия в области философских наук. После огульного критиканства 1990-х гг., когда советская философия признавалась сплошь антидемократичной и бесперспективной, современные авторы начинают обращаться к интегративному подходу, пытаясь разумно сочетать положительные моменты старых установок с нововведениями. Многие идеи, получившие актуализацию в настоящее время, были поставлены еще в 1970—1980-х гг., хотя подходы к их решению и страдали исторической ограниченностью. Так, например, разрабатывались: концепция гармоничного развития личности (Г. Е. Глезерман, Г. Л. Смирнов), проблема индивидуальности (И. И. Резвицкий), диалектика свободы и ответственности (И. И. Логанов), вопросы комплексного исследования человека (И. Т. Фролов), воспроизводственная концепция (В. Я. Ельме-ев) и др.
Материалистический в основе социоцентризм марксизма, в отличие от метафизического, оторванного от жизненных реалий социоцентризма православного, выступил идеологической основой для совершения мощнейшего скачка вперед во всех главных объективных основах и условиях, необходимых для развития российского и не только (рост социалистического движения оказал серьезное влияние на усиление борьбы рабочих за свои права в западных странах и их ориентацию на «социальный капитализм») общества.
«Во-первых, в материально-технических и технологических базисных основах общественного и цивилизационного прогресса. Во-вторых, в культурном развитии, что имеет важнейшее значение для
ГУМА1Н1АРНЙ: а к туальн ы е
ПРОБЛЕМЫ подъема цивилизации. В-третьих, в наличии и развитии традиционных социальнодуховных ценностей и ценностных ориентаций жизнедеятельности масс людей, определяющих приоритеты и преимущества всего типа бытия и образа их жизни» [11, с. 90-91].
С большинством этих тезисов нельзя не согласиться. Установление общественной собственности, ликвидация капиталистической эксплуатации вносят принципиальные изменения в положения работника в экономической системе. Он выступает одновременно в качестве производителя и собственника общественных средств производства. Специфическое положение человека в производстве наряду с достигнутыми социализмом успехами в создании крупного производственного и научно-технического потенциала, относительно устойчивым повышением уровня жизни населения послужили объективной основой иллюзорности преодоления при социализме всех форм отчуждения, причиной того, что проблемы отчужденного отношения к процессу труда и к средствам производства не находили четкого отражения в общественном сознании.
В первые годы советской власти эта видимость была подкреплена небывалым подъемом трудового энтузиазма рабочих, освобожденных от эксплуатации капиталом и вовлекаемых в управление производством и общественными делами на различных уровнях; крестьянства, получившего землю по декрету о ее национализации; новой народной интеллигенции, перед которой открылся широкий доступ к образованию и умственному труду [12, с. 194].
Уже сам характер советской системы, сочетавшей в себе, с одной стороны, интенции социального освобождения, вырастающего из практики, хотя и противоречивого, но все же снимающего отчуждение социокультурного творчества 1920-х гг., с другой — социального отчуждения, проявляемого в развертывании новых форм подавления личности, обусловливал общественную природу того типа противоречий, которые складывались в ней в ре- зультате переплетения многих социальнополитических и экономических тенденций. Их проявление нашло наиболее жесткое выражение в столкновении освободительной (гуманистической) тенденции советской действительности с теологической модификацией «советского социализма» (сталинизмом).
Исторически коммунизм при всех его издержках и губительных крайностях был не только той реальной силой, которая сохранила великую державу, но и социокультурной системой цивилизационного порядка. Он давал масштабное разрешение тех противоречий, которые не в состоянии были преодолеть ни царская Россия, ни вошедшие в ее состав азиатские культуры. По мнению видного философа и социолога А. А. Зиновьева, «советский период был и, по всей вероятности, останется навсегда вершиной российской истории. И как бы к нему не относились строители новой социальной организации России, советизм стал и будет в дальнейшем одним из решающих факторов в определении типа создаваемой ими социальной организации» [13, с. 302].
Вместе с тем жизнь предъявляла новые требования и ставила новые задачи. Строительство общества на позициях классово-партийной непримиримости, преклонения перед общественными идеалами и нивелирования личных интересов и потребностей или ошибочного понимания их как вытекающих только из общественных на практике привело к печальным результатам. В конце XX в. в стране нарастал клубок нравственно-идеологических (деидеологизация широких слоев населения, аморализм и потребительство партийной верхушки), социальных (отчуждение от управления на всех уровнях) и экономических противоречий (повышение уровня жизни вызывало рост потребностей, дефицит товаров, сырьевая экономика, гонка вооружений), вылившихся в политический кризис (недейственность репрессивных методов управления, провозглашение курса на перестройку и демократизацию, гласность и строительство «социализма с человеческим лицом»; в
ФИЛОСОФИЯ международной политике — ориентация на открытость, международное сотрудничество и разоружение).
Общественная жизнь индивидов и групп усложнялась, требуя иных подходов к объяснению социальной действительности. Догматический марксизм уже не соответствовал современным реалиям. Это обусловило отход от партийно-классовой (социоцентристской) и поиск новой адекватной происходящим переменам парадигмы. Таковой оказалась направленность на равноправный диалог личности и общества (диалогическая парадигма), нашедшая глубокое методологическое обоснование в учении М. М. Бахтина.
Согласно его точке зрения подлинное приобщение индивида к «социальному целому» как к единственному бытию (которое существует в единстве исторической и культурной реальности) возможно лишь через его поступок (акт активной нравственности). Именно это действие-поступок соединяет объективное бытие и субъекта («Я») в то целое, где бытие становится событием, а личность —его субъектом. Суть поступка —в проявлении ответственности, его цель —в практическом снятии отчуждения, как в материальной, так и идеальной сферах. «Поступок» не сводится лишь к представлению о том или ином моральном императиве. В данном случае он становится конкретным актом нравственного поступления, реализующего чувство личной ответственности за других людей («обобщенного Другого»), а значит — за себя, и таким образом обеспечивающего единство личности и общества.
Поступок как единство мотивации, действия (или воздержание от него), его результата и оценки —специфически русское понятие. Западноевропейские “act”, “action”, “die Wirkung” и т. д. означают лишь непосредственно практическое (физическое) действие, а его причины, мотивы, целевая направленность и оценки рассматриваются отдельно. Для российского духовного опыта характерно именно поступочное представление бытия, с позиции которого понять явление, значит представить его как вменяемое действие —разумное и ответственное, имеющее нравственный смысл и предназначение.
Другими словами, Бахтин «правильнее» Бердяева: сначала ответственность, потом свобода (как глубокое усвоение вины и вменяемости: «я причина своего поступка»). С этой точки зрения даже «каждая мысль моя с ее содержанием есть мой индивидуально-ответственный поступок из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всею своею жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни-поступления» [14, с. 370].
В научном творчестве М. М. Бахтин не только раскрыл и обосновал фундаментальные различия монологического и диалогического методов в гуманитарных науках (т. е. в изучении личности и общества), но и практически реализовал новые методологические установки: гуманитарного диалогизма. Будучи убежденным в том, что в художественно-историческом и литературно-эстетическом творчестве отдельное «Я» не является пределом исследования («Я» существует лишь «...во взаимоотношении с другими личностями, то есть я и другой, я и ты» [14, с. 373]), он продемонстрировал научно-эвристическую продуктивность гуманитарно-диалогического подхода в сравнении с методами объектно-позитивистского и субъектно-монологического познания.
Диалектика диалогики состоит в том, что диалогическое «Я — Ты» отношение не является только познавательным, но прежде всего несет в себе онтологическую укорененность человеческого бытия. Как только человек становится средством исследования, он превращается в объект познания и, значит, редуцируется до познавательно-гносеологического отношения. Диалогическое же исследование, напротив, по форме и содержанию протекает как диалог двух суверенных социальных агентов. «Любой объект знания (в том числе человек), —писал М. М. Бах-
ГУМА1Н1АРНЙ: а к туальн ы е
ПРОБЛЕМЫ тин, — может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание может быть только диалогическим» [14, с. 365].
Особенность взглядов Бахтина как социального философа состоит в том, что он отдает предпочтение субъекту ответственного поступка перед любой исторически конкретной системой общественных ценностей. Нет определенных и в себе значимых нравственных норм, но есть нравственный субъект с определенной структурой (очевидно, что не с психологической или физической), на которого и приходится положиться. Он будет знать, что и когда окажется нравственно-должным, точнее говоря, вообще должным (ибо нет специальнонравственного долженствования). Отсюда Бахтин делает вполне логичное заключение, что все социальные нормы должны иметь значение лишь постольку, поскольку они утверждаются субъектом.
Таким образом, в противовес моноло-гизму советского общества Бахтиным утверждается принцип диалогичности как основа формирования подлинно гуманной социальности. Только в Другом человек способен обрести свое Я. Здесь ярко выражен аксиологически-оценочный момент жизни человека.
В это же время в отечественной социальной философии наметилась и иная линия развития личности и ее связей с обществом. Условно ее можно назвать как «глобальный гуманистический антропоцентризм». Он предполагает значительное усиление роли «человеческого фактора» в кризисный «флуктуационный» период развития взаимозависимого целостного мира. В центр внимания ставятся проблемы гармоничного развития свободной и ответственной личности, способной критически воспринимать реальную действительность и творчески преобразовывать ее на благо себе и обществу в целом. Данное направление исследований, представленное работами Н. Н. Моисее- ва, И. Т. Фролова и др., заимствовавших идеи у Г. К. Гюнцля и И. Пригожина, имело продолжение в ценностных ориентирах периода перестройки.
Сегодня ситуация в мире характеризуется антропологическим кризисом, исчерпанностью духовной энергии, наступлением массового общества, отрицанием самоидентичности, технизацией мышления, экзистенциальным вакуумом и т. д. Это лишь немногие черты, присущие современному человечеству. Критика бюрократии, например, содержится в Ганноверской Декларации (1993) Римского клуба. В ней говорится, что в Европе и в мире все еще функционируют архаические институты управления, продолжают работать неэффективные экономические теории и политические структуры, действовать устаревшие идеологические штампы. Радикальные перемены необходимы, и они должны коснуться не только этих структур, но и менталитета людей. Требуются новые формы управления. Необходима подготовка новых политических руководителей (Римский клуб. Ганноверская Декларация).
Выход видится в отходе от классических представлений о проблеме единства личности и общества с позиций только антропо-, или только социоцентризма. Нужна глобальная переориентация современной философии в сторону понимания индивида и социума в качестве органических целостностей, учета многомерности и разноуровневости их взаимодействия, культурного разнообразия.
Процесс формирования глобального общества весьма неоднозначен и включает в себя интеграцию и суверенизацию, мировое господство и национальный консерватизм, сотрудничество и конкуренцию одних обществ по отношению к другим. Чтобы предотвратить негативизацию общественного развития и обеспечить его прогресс, человечеству необходимо перейти от тоталитаризма к демократии, от несвободы к свободе выбора, от принуждения и насилия к социальной координации, сотрудничеству, взаимодействию, созданию взаимодо- полняющих и гибких синергетических социальных систем, способных к саморегуляции, от национализма к гуманизму, от познания к самопознанию человеком самого себя.
«Только осознание принципиальной нелинейности социального и психологического развития, незамкнутости внешнего и внутреннего мира, неравномерности как естественного состояния любой живой системы позволяют говорить о смене парадигмы нашего мышления, о переосмыслении отношений человека с окружающим миром и самим собою, остро ставят вопрос о нравственных ценностях как сущности культуры, о нравственном императиве как единственном шансе на выживание и развитие» [15].
Список литературы Трехкратная смена идеологической парадигмы в понимании единства личности и социума в отечественной философии ХХ века
- Kuhn T. Seconds Thoughts on Paradigms//The Structure of Scientific Theories. Urbana, 1974. P. 459-482.
- Gunzl Ch. Bewaltigungen der Vergangenheit und der Zukunft durch «Neues Denken». Linz: Universitatsverlag R. Trauner, 1992. S 63.
- Соловьев В.С. Избранные произведения. Ростов н/Д., 1998. С. 65.
- Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия//В.С. Соловьев. Соч. в 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 175.
- Трубецкой Е.Н. Творческий акт Бога в вечности и творчество человеческой свободы во времени//Е.Н. Трубецкой. Избранные произведения. Ростов н/Д., 1998. С. 188.
- Тульчинский Г.Л. Об одной ошибке русской философии//Вопросы философии. М., 1995. № 3. С. 88.
- Маркс К., Энгельс Ф. Тезисы о Фейербахе//К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. В 50-ти т. Изд. 2-е. М., 1957. Т. 3. С. 2.
- Карсавин Л.П. Религиозно-философские сочинения. -М., 1992. Т.1. С. 362.
- Барулин В.С. Социально-философская антропология: Общие начала социально-философской антропологии. М., 1994. С. 23-24.
- Казакова Н.В. Русская публицистика в социально-философском осмыслении приоритетных глобальных проблем/Науч. ред. проф. Д.Е. Фролов. Саранск, 2001. С. 112.
- Семенов В.В. Диалектика взаиморазвития общества, культуры, цивилизации//Философия и общество. М., 2006. № 2. С. 90-91.
- Кузьминов Я.И. Отчуждение труда: история и современность/Я.И. Кузьминов, Э.С. Набиуллина, В.В. Радаев, Т.П. Субботина. М., 1989. С. 194.
- Зиновьев А.А. Постсоветская Россия в эпоху глобализации//Культура. Личность. Общество = Culture Personality. Soc. M., 2002. Т. 4. Вып. 1-2(11-12). С. 302.
- Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук//Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 370.
- Пуляев В.Т. Новая парадигма гуманитарного развития в условиях глобализации [Электронный ресурс]. -Саранск, [2009]. -Режим доступа: http://www.ibci.ru/konferencia/page/statya70.htm>. -Загл. с экрана.