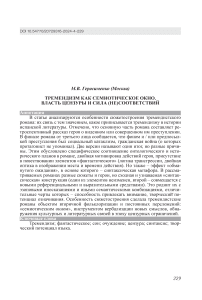Тремендизм как семиотическое окно. Власть цензуры и сила (не)соответствий
Автор: Герасименко М.В.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Зарубежные литературы
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются особенности сюжетостроения тремендистского романа: их связь с тем значением, какое приписывается тремендизму в истории испанской литературы. Отмечено, что основную часть романа составляет ретроспективный рассказ героя о виденном или совершенном им преступлении. В финале романа от третьего лица сообщается, что фоном и / или предпосылкой преступления был социальный катаклизм, гражданская война (о которых протагонист не упоминал). Две версии называют один итог, но разные причины. Этим обусловлено специфическое соотношение онтологического и исторического планов в романе, двойная мотивировка действий героя, присутствие в повествовании элементов «фантастического» (логика трансгрессии, двойная оптика в изображении места и времени действия). Но также - эффект «обманутого ожидания», в основе которого - синтаксическая метафора. В рассматриваемых романах разные сюжеты и герои, но сходная и узнаваемая «синтаксическая» конструкция (один из элементов неизменен, второй - совмещается с новыми референциальными и выразительными средствами). Это роднит их с эзоповыми иносказаниями и иными семантическими комбинациями, отличительные черты которых - способность привлекать внимание, творческий- потенциал означивания. Особенность сюжетостроения сделала тремендистские романы объектом вторичной фольклоризации и постоянных переложений: «семиотическим окном», инструментом вербализации новых смыслов, обнаружения культурных и литературных связей в эпоху цензурных ограничений.
Тремендизм, фантастическое, сон, очуждение, цензура, синтаксис, творческий потенциал языка
Короткий адрес: https://sciup.org/149147191
IDR: 149147191 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-229
Текст научной статьи Тремендизм как семиотическое окно. Власть цензуры и сила (не)соответствий
В статье анализируются особенности сюжетостроения тремендистского романа: их связь с тем значением, какое приписывается тремендизму в истории испанской литературы. Отмечено, что основную часть романа составляет ретроспективный рассказ героя о виденном или совершенном им преступлении. В финале романа от третьего лица сообщается, что фоном и / или предпосылкой преступления был социальный катаклизм, гражданская война (о которых протагонист не упоминал). Две версии называют один итог, но разные причины. Этим обусловлено специфическое соотношение онтологического и исторического планов в романе, двойная мотивировка действий героя, присутствие в повествовании элементов «фантастического» (логика трансгрессии, двойная оптика в изображении места и времени действия). Но также - эффект «обманутого ожидания», в основе которого - синтаксическая метафора. В рассматриваемых романах разные сюжеты и герои, но сходная и узнаваемая «синтаксическая» конструкция (один из элементов неизменен, второй - совмещается с новыми референциальными и выразительными средствами). Это роднит их с эзоповыми иносказаниями и иными семантическими комбинациями, отличительные черты которых - способность привлекать внимание, творческий" потенциал означивания. Особенность сюжетостроения сделала тремендистские романы объектом вторичной фольклоризации и постоянных переложений: «семиотическим окном», инструментом вербализации новых смыслов, обнаружения культурных и литературных связей в эпоху цензурных ограничений.
Кл
ючевые слова
Тремендизм; фантастическое; сон; очуждение; цензура; синтаксис; творческий потенциал языка.
M.V. Gerasimenko (Moscow)
TREMENDISM AS A SEMIOTIC WINDOW. THE AUTHORITY OF CENSORSHIP AND THE POWER OF (UN)CORRESPONDENCES bstract
A
The article analyzes the peculiarity of plot construction in three novels of
tremendism, its connection with the significance attributed to tremendism in the history of Spanish literature. The main part of the novel is the hero’s retrospective story about a crime he has seen or committed. At the end of the novel by a third person point of view it is reported that the background and / or prerequisite for the crime was a social cataclysm, a civil war (the protagonist did not mention it). Two versions indicate the same outcome, but different reasons. This determines the specific combination of ontological and historical dimensions in the novel, the double motivation for the hero’s actions, the presence of “fantastic” elements in the narrative (transgressive logic of action; dual optics of the place and time qualities descriptions). The co-inherence of different versions of event produce also some effect of “defeated expectancy”, which is based on a syntactic metaphor. Three studied novels of tremendism have different plots and characters, but a similar “syntactic” construction (one of the elements of syntactic structure stay intact, while the second is modified, mixed with other referential and expressive resources). This brings the structure closer to Aesopian allegories and other semantic combinations, characterized by creative potential of signification. The peculiarity of plot construction made tremendist novels an object of secondary folklorization and constant adaptations: a “semiotic window”, a tool for verbalizing new meanings, discovering cultural and literary connections in the era of censorship.
ey words
Tremendism; fantastic; sueño; ostranenie (alienation); censorship; syntax; creative aspect of language.
Тремендизм часто называют течением, преодолевшим цензурные ограничения и возродившим испанскую литературу в эпоху, когда из-за произвола цензуры еще не оправившаяся от ужасов недавней гражданской войны Испания оказалась отрезанной от европейской литературной традиции и даже собственного недавнего литературного прошлого. Его называли и версией экзистенциализма, и возвращением к натурализму; течением и новаторским, возродившим национальную литературу, – и реакционным, быстро выродившимся в «штамп». Однако, несмотря на противоречивость определений, тремендизм стал знаковым литературным явлением в послевоенной испанской литературе, исследовательский интерес к нему не утихает по сей день (в то время как другие течения того периода – мисерабилизм, гарсиласизм, синестеризм, триумфализм – практически забыты).
Как связаны столь долгая слава тремендизма, споры вокруг него, внимание к нему исследователей и значение, приписываемое ему в истории испанской литературы, – со свойствами самих текстов? Попытаемся ответить этот вопрос, исследовав три романа: наиболее часто причисляемые к тремендист-ским «Семью Паскуаля Дуарте» К.Х. Селы и «Ничто» К. Лафорет, а также «Со смертью на плече» Х.Л. Кастильо-Пуче, в эпилоге которого упомянут (пусть мельком и в негативном ключе) «тремендистский роман» как явление [Castillo-Puche 1972, 316], что можно счесть свидетельством писательской рефлексии.
Одна из особенностей повествования в тремендистском романе – его «регрессивная» организация: лишь финал вносит ясность в суть описанных событий, притом проливая не на факты, а на природу случившегося. В конце романа (большую часть которого составлял рассказ героя о преступлении, которое он видел или совершил) в рамке, в комментарии, реплике второстепенного персонажа появляется намек, что фоном случившегося были исторические или социальные обстоятельства, о которых он не упомянул.
В романе «Семья Паскуаля Дуарте» рукопись заглавного героя, которую он пишет, сидя в тюрьме в ожидании исполнения смертного приговора и предаваясь воспоминаниям о роковых обстоятельствах своей личной жизни, дана в рамке из примечаний переписчика. Предупредив, что вырезал из рукописи некоторые не информативные, но скабрезные фрагменты, переписчик оговаривается, что ничего не смог выяснить о том, чем занимался этот убийца и насильник, ненадолго освободясь из тюрьмы вовремя кровавой Пятнадцатидневной революции, случившейся в 1936 г. в Бадахосе, близ которого разворачивается действие романа.
Почти буквально воспроизводится эта схема в романе «Со смертью на плече». В финале, в примечании от лица адресата записок протагониста (Хулио) сказано: погиб Хулио в результате нападения «макис», а выкосившим его семью туберкулезом, ожидание смерти от которого было лейтмотивом его рассказа и побудило его покуситься на жизнь врача, необъяснимо равнодушного к его смертельной болезни, – вовсе не страдал. Ипохондрия и преступление Хулио – плоды приобретенного на войне невроза [Castillo-Puche 1972, 314].
Предмет размышлений Андреи («Ничто»), ломающей голову над загадками характеров и судеб своих родных, – символическое противостояние между ней и ее дядей Романом, циничным манипулятором, ломающим судьбы близких. Его внезапный суицид, в рассказе Андреи выглядящий как развязка этого противостояния, в финале получает косвенное обоснование в признании его невестки Глории о том, что она донесла на него [Герасименко 2023, 86–95].
Герои погрязают в рефлексии и самообвинении, но в глазах общества их «преступления» не так уж и страшны (из комментариев третьих лиц следует, что Паскуаль преступал закон не (только) по своему произволу, а во время войны; врач Хулио остался жив; Роман погиб не в результате противостояния с Андреей). «Покаяния» героев не услышаны. Их «преступление» из нарушения наложенного обществом вето превращается в примету метафизической вины.
В романе – два измерения: онтологическое и историческое.
Версия произошедшего, озвученная в финале, с версией героя совпадает в описании итогов, но расходится в описании причин. Этим определяются особенности смыслообразования, рецепции тремендистского романа.
Потенциальное несовпадение свободы воли индивида и потребности целого, истории не доводится до противоположности: появляется двойная мотивировка (какая просматривалась в романе-эпопее XIX в. [Гачев 1968, 126– 127]); изображается не индивидуальная судьба, а со-бытие, бытие во всем объеме (как то происходит в эпосе [Гачев 1968, 126–127]).
Граница меж личным и историческим измерениями (имманентным и трансцендентным, «я» и «другим») иллюзорна. В сюжете и повествовании появляются черты, которые разными исследователями бывали названы как приметы «фантастического»: восполняющее нарушенную казуальность появление инфернальных персонажей [Тодоров 1999, 93], обладающих неограниченной властью над героем (брат Паскуаля подобен Антихристу [Села 1980,
42, 46–47]; Романа Андрея сравнивает с «восточным магом», отмечает его способность завладевать умами людей [Лафорет 2021, 76, 252]); недифференциро-ванность «я» героя [Jackson 1981, 72]; двойная оптика в описании места-времени действия: персонаж существует одновременно и в «этом», и в «ином» мире [Харитонова 2012, 322] (тюрьма Паскуаля Чинчилья, улицы Арибау и Гран-Виа, на которых стоят дома Андреи и Хулио, – реальные локации; однако в рассказах героев это ирреальные, пограничные между мирами живых и мертвых пространства [Лафорет 2021, 35-36, 112; Castillo Puche 1972, 71–72]); логика трансгрессии [Campra 2001, 180–182] (слово героя приобретает силу в преодолении своей первичной направленности); небольшой объем произведения и строгая функциональность его компонентов [Campra 2001, 185].
Точечное соответствие двух версий располагает читателя искать их возможного единства, работает как символ .
Когда в финале романа ранее известные события вдруг представляются в ином свете, перестают быть объяснимы, возникают эффекты «обманутого ожидания», «затрудненного восприятия». Инструмент их создания – синтаксическая метафора: «привнесение <...> [в синтаксическую цепь] логики и последовательности, приемлемых в иных цепях» [Миловидов 2015, 306]. Ключевые вопросы о том, возможно ли объяснение частного через общее, может ли субъективный опыт стать подступом к глобальной закономерности, иероглифически запечатлены в наложении синтаксических структур.
В масштабе и конкретного романа, и «тремендистского романа» как серии текстов, однообразных по структуре, имеет место синтаксическая членимость компонентного состава: есть постоянный «шаблон» и частные произвольные содержания , которые нанизываются на него. Коль две приводимых в романе версии произошедшего указывают один и тот же итог и расходятся в описании причин, встает необходимость нового осмысления того же самого событийного ряда. Аналогично, действующие лица и событийный ряд уникальны в каждом из романов, – но во всех них прослеживается единая схема сюжето-строения.
Такая «двусоставность», использование «синтаксической метафоры» характерны для разных типов передающихся из уст в уста семантических комбинаций, отличительными чертами которых можно назвать способность привлекать внимание и творческий потенциал означения (сопряженный, вероятно, с заменой одного означающего на другое).
Первая по очевидности аналогия – содержащие «маркер» и «ширму», отвлекающую цензора от «маркера» [Loseff 1984, 51], эзоповы иносказания. Появившиеся в эпоху становления франкистской диктатуры и цензуры произведения тремендизма часто интерпретировали как искусно завуалированные высказывания на злободневные темы (однако такие интерпретации бывали безосновательны; возможно, популярность их связана с амбивалентной писательской стратегией первого автора-тремендиста, К.Х. Селы, который был цензором в министерстве цензуры).
Двусоставностью характерны и эвфемизмы: в большинстве своем они содержат «инвариант», помогающий разгадать их смысл, и случайную сему, которая к инварианту добавляется и, хотя распознаванию смысла не препятствует, все же частично деформирует его [Кипрская 2002, 55–57].
В «мемах» один из составных элементов (носитель, vehicle ) неизменен, второй – совмещается с новыми референциальными и выразительными средствами [Knobel, Lankshear 2007, 208–209, 215].
Говоря о категории «интересного» (альтернативе познания истины и поиску согласия) как о важнейшей категории современной культуры, – в частности, литературы и дискуссии о ней, – М.Н. Эпштейн описывает «интересные» высказывания (афоризмы и др.) как отношение двух переменных: «менее очевидной» (тезис) к «более очевидной» (аргумент) [Эпштейн 2016, 88–89].
Мы полагаем, критерий, описывающий «интересное» высказывание как двусоставное, применим также к «эзоповым иносказаниям», «мемам», афоризмам, в которых есть «менее очевидная» часть, каждым новым автором подбираемая произвольно, – и «очевидный» «маркер», vehicle, уже замеченный в иных контекстах и опознаваемый как «что-то» «где-то» уже значивший: как «знак вообще», «знак в чистом виде».
Высказывание понято (в качестве эзопова иносказания, афоризма, мема и др.), если адресат опознает «знак» (и, соответственно, само высказывание как содержащее след переложений – и доступное для них). Автор, прибегая к «эзопову языку», ориентируется не только на требования цензора, чьего внимания избегает, но и на и «цензуру» читателя (его готовность опознать «знак»).
Написанный с ориентацией на «предварительную цензуру коллектива» текст ввергается культурой в фольклорную стихию воспроизведения, варьирования и подражания, становится объектом вторичной фольклоризации [Богатырев 1971, 375–376]. Подражание такому тексту оборачивается созданием побочных линий повествования, версий одних и тех же событий построению гипотез «что было раньше», «что случилось потом» [Зенкин 2012, 134].
Г. Мараньон, друг Селы, пролог к «Семье …» написал в форме диалога двух читателей, один из которых Паскуаля оправдывает, другой – осуждает [Marañón 1966, 694-700]. Этот пролог – прообраз будущих споров вокруг романа: Паскуаль – преступник или жертва эпохи? Его исповедь – самооправдание или признание и вызов? Его история – история о предопределенности и социальном детерминизме или о личной ответственности, выборе? В некоторых статьях по «Ничто» конструируются версии событий, по сути своей альтернативные тем, что были прямо описаны в рассказе Андреи: в таблицах сопоставляются высказывания разных героев о том или ином происшествии, их «реальная» хронология сверяется с хронологией их упоминаний в тексте и т.д. [Anderson 2011, 548–550].
Содержание тремендистского романа несколько раз в процессе чтения подвергается переоценке. Окончательные значения «объектов» представляются неизвестными: характеры – условными, роли – случайными и взаимозаменяемыми.
Этот принцип проявляется в популярных в тремендизме мотивах (имеющем место в «Ничто» мотиве каинизма – противостояния братьев, любой исход которого трагичен: «победитель» сам оказывается жертвой, смерть одного брата обрекает на смерть, безумие и т.д. другого). А также в отдельных сценах.
Так, например, в сцене убийства матери Паскуаль и его жертва меняются местами. Кровь матери попадает ему на лицо, борьба завершается словами «я продохнул»: сцена убийства читается как изображение «рождения». Мать зубами вырвала Паскуалю сосок (припала к его груди, подобно новорожденному). Она оказывается «жертвой», какой представлялся Паскуаль (кровь матери сравнивается с «овечьей» (агнца) при том, что имя Паскуаль, Pascual от исп. Pascua , – «Пасхальный»). Расправляясь с ней, видя в ней воплощение зла, – он, прежде будто сам занимая ее место, утверждает «воплощение зла» в виде устойчивой переменной.
При вариативности «объектов», в тремендистском романе константны «отношения» между этими объектами: при подвижности буквального смысла, «синтаксическая» форма остается постоянной. Синтаксис, по Н. Хомскому, обеспечивает творческий потенциал языка (способность к рекурсии, к бесконечному использованию конечных средств) [Хомский 1972, 13; 126; 131].
При этом, раз значения «объектов» подвижны, то проявление того или иного рода отношений не гарантируется присутствием какого-либо объекта: любой набор «объектов» воспринимается как недостаточный, изображение – как «искаженное».
Искажение (ускользание означаемого от означающего) Ж. Лакан называл исходной предпосылкой в механизме работы подсознания. Задача его – обойти «цензуру сознания», «преодолеть недостаток материала для представления таких категорий, как причинность, противоречие, предположение, и т.д.», – отношений, составляющих содержание сознания [Лакан 2004, 136– 138].
Механизмы работы подсознания Лакан рассматривает на примере «сна», отмечая, что сон является «скорее системой письма, чем пантомимы»: «формирующую роль» в нем играет означающее, сон в целом «следует законам знака» [Лакан 2004, 136–138]. Как «знак в чистом виде» сон характеризовал и Ю.М. Лотман. Сон – «знак неизвестно чего»: «пространство, подобное реальному, но одновременно реальностью не являющееся», имеющее значение, но неизвестно, какое [Лотман 1992, 221]. Поэтому культурная функция сна – быть «семиотическим окном»: язык сна, характерный своей огромной неопределенностью, «неудобен для передачи константных сообщений и чрезвычайно приспособлен к изобретению новой информации». Сон может становиться «резервом семиотической неопределенности, пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами» [Лотман 1992, 226].
«Сон» – «семиотическое окно», пространство скольжения и подмены означающих, переосмысления узнаваемых значений и форм, – может быть, вероятно, назван одной из доминант в испанском сознании. Веками оно было подавляемо чуждой, извне навязываемой нормой, и сделалось склонно очевидную реальность осознавать как неподлинную, «настоящее» и «подлинное» воображая принадлежащим иному, «недоступному захватчикам» миру [Хорева 2019, 196–197], как бесконечно ускользающее. «Темнота» стиля тре-мендистского романа – отражение не только настроений эпохи, но и национального духа вообще.
Став предметом споров, бесконечных реинтерпретаций тремендистский роман проблематизировал вопрос о связи явлений до- и послевоенного времени, зарубежной и национальной литератур, стал точкой интерференции, «носителем» самых противоречивых определений: разжег литературную дискуссию в новых реалиях. В этом, видится нам, и есть его культурное значение.
Список литературы Тремендизм как семиотическое окно. Власть цензуры и сила (не)соответствий
- Богатырев П.Г. Фольклор как особая форма творчества // Вопросы народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 369-383.
- Гачев Г.Д. Содержательность художественных форм. (Эпос. Лирика. Театр). М.: Просвещение, 1968. 302 с.
- Зенкин С.Н. От текста к культу // Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 127-137.
- Кипрская Е.В. Некоторые проблемы исследования эвфемизмов // Психолингвистические исследования: слово и текст / сб. научн. статей. Тверь: Тверской государственный университет, 2002. С. 53-58.
- Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном // Современная литературная теория. Антология / сост. И.В. Кабанова. М.: Флинта: Наука, 2004. С. 134-156.
- Лафорет К. Ничто. М.: Центр книги Рудомино, 2021. 320 с.
- Лотман Ю.М. Сон - семиотическое окно // Культура и взрыв. М.: Гнозис, Издательская группа «Прогресс». С. 219-226.
- Миловидов В. А. Феномен «остранения» и синтактика художественного текста (вопросы переводческого анализа) // Вестник Тверского государственного университета. 2015. № 2. С. 205-310.
- Села К.Х. Семья Паскуаля Дуарте. М.: Прогресс, 1980. 112 с.
- Тодоров Ц. Введение в фантастическую литературу / пер. с франц. Б. Нару-мова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. 144 с.
- Харитонова Н.Ю. «Потустороннее в наши дн». Категория страха в поэтике неофантастического испанского рассказа // Вопросы литературы. 2012. № 4. С. 313337.
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / пер. с англ. Под ред. и с предисл. В.А. Звегинцева. М.: Издательство Московского университета, 1972. 258 с.
- Хорева Л.Г. Новейшая испанская проза: в поисках идентичности // Парадигмы переходности и образы фантастического мира в художественном пространстве XIX-XXI вв. Коллективная монография. Нижний Новгород: Издательство ННГУ имени Н.И. Лобачевского, 2019. С. 193-198.
- Эпштейн М.Н. От знания к творчеству. Как гуманитарные науки могут изменять мир. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 480 с.
- Anderson A. Narrative Structure and Epistemological Uncertainty in Carmen La-foret's Nada // Bulletin of Spanish Studies: Hispanic Studies and Researches on Spain, Portugal and Latin America. 2011. № 4. Vol. 88. P. 541-561.
- Campra R. Lo fantástico: una isotopía de la transgression // Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco Libros, 2001. Р. 153-192.
- Castillo Puche J.L. Con la muerte al hombro. Barcelona: Destino, 1972. P. 9-316.
- Jaсkson R. Fantasy: The Literature of Subversion. New York: Methuen, 1981. 211 р.
- Knobel M., Lankshear C. Online Memes, Affinities, and Cultural Production // A New Literacies Sampler. 2007. № 29. Р. 199-227
- Loseff L. On the Beneficence of Censorship. Aesopian Language in Modern Russian Literature. München: Sagner, 1984. 277 р.
- Marañón G. Sobre La familia de Pascual Duarte // Obras completas. Recapitulación de textos y notas por Pedro Lain Entralgo. T. 1. Madrid: Espasa-Calpe S.A., 1966. P. 694-700.