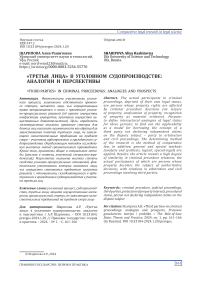«Третьи лица» в уголовном судопроизводстве: аналогии и перспективы
Автор: Шарипова А.Р.
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Сравнительно-правовые исследования в юридической науке
Статья в выпуске: 1 (75), 2024 года.
Бесплатный доступ
Фактическими участниками уголовного процесса, лишенными собственного правового статуса, являются лица, чьи имущественные права затрагиваются в связи с принятием уголовно-процессуальных решений (об аресте имущества, конфискации имущества, признании имущества вещественным доказательством).
Уголовный процесс, судопроизводство, третьи лица, защита имущественных интересов, процессуальный статус, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора лицо
Короткий адрес: https://sciup.org/142240168
IDR: 142240168 | УДК: 347.2 | DOI: 10.33184/pravgos-2024.1.20
Текст научной статьи «Третьи лица» в уголовном судопроизводстве: аналогии и перспективы
Поводом для написания статьи послужила защита кандидатской диссертации В.В. Муры-левой-Казак «Процессуальные средства защиты имущественных прав лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства», по которой автор настоящей статьи выступала в качестве официального оппонента. Глубина проблем, поднятых в работе, превзошла формат оппонентского отзыва и заставила обратиться в поиске их решения к межотраслевым аналогиям.
Главные тезисы В.В. Мурылевой-Казак, с которыми в целом мы солидарны, сводятся к следующему:
-
1) интересы лиц, не являющихся ни обвиняемыми, ни потерпевшими по уголовному делу, фактически затрагиваются уголовным судопроизводством через воздействие на их имущество;
-
2) это воздействие происходит в случае наложения ареста на имущество, признания его вещественным доказательством, обращения на него конфискации;
-
3) для защиты имущественных интересов такие лица нуждаются в приобретении процессуального статуса, который предполагает определенный набор прав при вынесении ряда процессуальных решений [1, с. 10–15].
Целесообразность введения фигуры третьего лица в уголовное судопроизводство
Предложение именовать лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства, третьими лицами, не признавая при этом их подобия арбитражным процессуальным и гражданским процессуальным третьим лицам, а также конкретное содержание их процессуального статуса представляются нам спорными. Попытка найти оптимальное место для этих лиц среди участников уголовного процесса, которых более привычно в уголовно-процессуальной терминологии именовать заинтересованными, и побудила нас к поиску межотраслевого «вдохновения».
Анализ случаев признания субъектов третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на предмет спора, в ар- битражных и гражданских делах показывает, что основания такого признания неоднородны. Мы не можем согласиться с В.В. Муры-левой-Казак в том, что у третьих лиц всегда предполагаются какие-то материально-правовые отношения с истцом или ответчиком [2, с. 54–55], сам факт ограничения каких-либо прав вследствие применения обеспечительных мер является основанием для признания соответствующего лица третьим лицом без самостоятельных требований1. Полагаем, что это абсолютно верный подход, применимый к любому виду судопроизводства: если собственник арестованного имущества известен, он должен быть признан участником процесса, а наиболее подходящий для него правовой статус – третье лицо без самостоятельных требований.
Думается, что данная фигура и задумывалась как «собирательная», распространяющая свой статус на любых лиц, участие которых в деле необходимо, но которые не обладают явными процессуальными признаками других участников судопроизводства. Арбитражное, административное и гражданское судопроизводства в целом не сталкиваются с системной проблемой существования не участвующих в деле лиц, чьи права затрагивались бы этим судебным делом. В абсолютном большинстве случаев «желающие» участвовать в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, допускаются судом к такому участию. С позиций цивилистического процесса риск негативных последствий от наличия «лишнего» участника меньше (а он существует, так как «подставные» третьи лица могут использоваться для искусственного затягивания спора, заявления обеспечительных мер, изменения подхода к распределению судебных расходов и др.), чем риск принятия решения о правах лица, не участвующего в деле, которое является безусловным основанием для отмены судебного акта (ч. 4 ст. 269 АПК, ч. 4 ст. 330 ГПК, ч. 1 ст. 310 КАС).
Разъяснения Верховного Суда РФ относительно признания лица, не заявляюще- го самостоятельных требований на предмет спора, третьим лицом касаются не ситуаций, в которых такие участники допускаются в процесс (их подавляющее большинство), а ситуаций, когда оснований для участия в процессе недостаточно (например, один лишь факт упоминания какого-либо лица в тексте искового заявления – п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»). Арбитражный процесс, по нашим оценкам, является наиболее «открытым» к признанию желающих третьими лицами без самостоятельных требований; даже внутри цивилистического процесса есть разные тенденции судебной практики по вопросам, связанным с правовым статусом третьих лиц без самостоятельных требований. Так, например, определения об отказе во вступлении в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований могут быть обжалованы вапелляционномпорядкеотдельноотрешения в арбитражном процессе2, но не могут – в гражданском процессе3.
Совершенно понятно, что цивилистиче-ская «легкость» введения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, не может быть перенесена в уголовный процесс. Если говорить точнее, то не подходит она по большей части только для досудебного производства с его тайной следствия; нам ясно, что следователь и прокурор не горят желанием допускать к участию в уголовном деле лиц, движимых собственными интересами, которые, скорее всего, не совпадают с интересами расследования. Никаких механизмов преодоления этой негативной тенденции, помимо судебных, мы представить не можем. Если говорить строго об имущественных правах «неофициальных третьих лиц» в уголовном процессе, то они, по справедливому выводу В.В. Мурылевой-Казак, страдают в трех основных случаях: признания ценного имущества вещественным доказательством с режимом хранения, ограничивающим права владения и пользования, ареста имущества и конфискации имущества. Последние два действия совершаются только судом, поэтому мы могли бы ожидать от суда как независимого органа, осуществляющего правосудие, а не просто по какой-то законодательной прихоти удостоверяющего документы органов уголовного преследования, поведения, обеспечивающего участие в процессе тех самых «третьих лиц», о чьих имущественных правах принимается решение. Конкретное законодательное оформление обязанности суда установить собственника вовлекаемого в уголовный процесс имущества и привлечь его к участию в деле по своей или его инициативе вариативно: оно возможно, например, через указание на отмену судебного акта, принятого о правах лица, не участвующего в деле, подобное существующему в АПК, ГПК и КАС.
Если решение о наложении ареста на имущество было принято судом без участия собственника, то применимой аналогией из арбитражного процесса мы также считаем закрепление его права обратиться в суд, принявший судебный акт об аресте, с заявлением об отмене ареста. Право на апелляционное обжалование (существование которого такое лицо еще должно доказать), конечно, лучше, чем ничего, но не является, по нашему мнению, достаточным, поскольку обеспечивает «третьему лицу» – собственнику арестованного в уголовном судопроизводстве имущества – участие только в одной судебной инстанции, рассматривающей спор по существу.
Что касается признания имущества вещественным доказательством, осуществляемого по большей части без участия суда, то оно является еще более произвольным, чем наложение ареста на имущество, хотя, по сути, давно стало использоваться не только и не столько ради доказывания, сколько ради принуждения. И если арест (и его последующее снятие) и приносит «третьим лицам» убытки, но не может вовсе лишить собственности, то определение судьбы вещественных доказательств при вынесении окончательных процессуаль- ных решений может менять собственников имущества вне каких-либо правовых оснований и предусмотренных законом процедур. Не углубляясь подробно в эту проблему, можем лишь отметить, что уголовному судопроизводству можно было бы заимствовать цивилистическое правило о возвращении вещественных доказательств тому лицу, «от которого они были получены» (за исключением явных случаев обладания имуществом в нарушение закона). Подобные правила закреплены в ч. 3 ст. 76 ГПК, ч. 1 ст. 80 АПК, ч. 1 ст. 75 КАС.
Кроме того, назрела необходимость оценки целесообразности и определения баланса частных и публичных интересов при решении вопроса о выборе режима хранения вещественных доказательств в уголовном процессе. Нормы практически столетней давности, рассчитанные на признание вещественными доказательствами по большей части орудий преступления, с тем же размахом применяются в отношении ценного имущества типа автомобилей, ценных бумаг или денежных средств. Ни УПК, ни позиции Верховного Суда РФ не содержат указания правоприменителям хотя бы по возможности оберегать права законопослушных собственников имущества. Привычно не церемонясь, уголовный процесс ограничивает имущественные права лиц, чья единственная неудача в том, что их имущество оказалось не в том месте и не в то время. От этого страдает правовая система в целом, потому что с законопослушными гражданами вообще и с состоятельными законопослушными гражданами в частности надо обращаться бережно, поскольку они потенциально государству многократно пригодятся.
Краткое рассмотрение типичных ситуаций вовлечения в уголовный процесс интересов лиц без правового статуса позволяет сделать вывод о принципиальной возможности распространения на него аналогии цивилистических третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. Допустимо и использование более привычного для уголовного судопроизводства наименования «заинтересованные лица», тем более что оно используется в административном судопроизводстве, причем именно в значении третьих лиц без самостоятельных требований (ст. 47 КАС).
Аналогия с участниками обособленного спора
Принципиально важно установить, что лица, чьи интересы затрагиваются принятием каких-либо уголовно-процессуальных решений, должны иметь возможность участвовать при принятии этих решений и иметь необходимый для этого объем процессуальных прав (и соответствующих обязанностей). Но анализ объема этих прав применительно к лицам, вовлеченным в уголовный процесс только «через свое имущество» и не являющихся при этом потерпевшими или обвиняемыми, может заставить нас усомниться в целесообразности признания их именно третьими, или заинтересованными лицами.
Соответствующий статус предполагает полномасштабное участие лица в уголовном деле с обязанностями выяснения его мнения по всем или большинству процессуальных вопросов, извещения его о процессуальных действиях и решениях с предоставлением ему прав заявлять ходатайства, обжаловать судебные акты и т. д. Если интересы лица в уголовном деле исчерпываются, например, решением судьбы его имущества, признанного вещественным доказательством и изъятого, то подобный объем процессуальных прав и обязанностей будет ненужным бременем для лица, а также лишним фактором усложнения и удлинения для уголовного процесса. Поиск междисциплинарных аналогий мог бы дать еще более интересные, чем цивилистические третьи лица, находки для сравнения.
Оригинально проблема «не основных» участников судопроизводства, которые не заинтересованы в основном материально-правовом споре, решена в арбитражных делах о банкротстве. Изначально на уровне соответствующего закона и АПК, помимо третьих лиц, выделены заинтересованные и иные лица, а затем сложный состав участников структурирован в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 июня 2012 г. № 35 путем введения понятия «обособленный спор». «Не основные участники» обладают процессуальными правами только в рамках обособленного спора, благодаря чему они не становятся балластом для процесса на всем его протяжении, в том числе в решении вопросов, которые этих лиц даже косвенно не касаются.
Разумеется, для того, чтобы ввести подобного участника в уголовный процесс, сначала нужно выделить критерии, позволяющие «обособить» спор, касающийся его имущества. В рамках настоящей статьи мы не преследуем цели подробно проанализировать этот вариант, к тому же он представляется достаточно сложным, мы лишь хотим продемонстрировать, что процессуальные отрасли права могут предложить разные способы решения существующих проблем уголовного судопроизводства. Они так же небесспорны и могут подвергаться критике, как и те, что предлагаются процессуалистами без учета опыта арбитражного, гражданского и административного процесса, но они есть и могут обсуждаться.
Возможные последствия закрепления правового статуса «третьих лиц» в уголовном процессе
Попытки решения проблемы, подобной обсуждаемой, неизбежно влекут возникновение новых, однако это не является причиной для отказа от ее решения. Понятно, конечно, что всем, помимо тех самых «невидимых» для уголовного процесса «третьих», или «заинтересованных» лиц, проще продолжать работать в условиях их процессуального отсутствия; понятно, что допуск их в процесс решает только их проблемы, а всем остальным – их создает. Но все же это недостаточное основание, чтобы продолжать делать вид, что этих лиц не существует.
Так, одна частная проблема, которая может возникнуть при определении правового статуса лиц, вовлеченных в уголовный процесс посредством их имущества, – это вопрос о процессуальном правопреемстве. В уголовном процессе, в отличие от гражданского, арбитражного и административного (ст. 44 ГПК, ст. 48 АПК, ст. 44 КАС), понятие процессуального правопреемства отсутствует. Во-первых, это связано с тем, что материальные правоотношения, по поводу которых разрешаются споры, носят личный характер, исключающий правопреемство. Во-вторых, для уголовного процесса характерны только властные правоотношения, поэтому даже «заменяемые» участники (например, потерпевший) меняются по решению должностных лиц, а не по каким-то установленным правилам. В-третьих, в отличие от цивилистического процесса, который не может продолжаться без истца, уголовный обойтись без потерпевшего может [3].
В отличие от «обычных» для уголовного процесса правоотношений «побочные», связанные с арестованным имуществом, вещественными доказательствами и т. п., предполагают достаточно широкий спектр материально-правовых возможностей изменения собственника, вслед за которым должна, по логике, происходить процессуальная замена участника. Простейший вариант такой возможности – переход прав на имущество по наследству. У правопреемства, основанного на материальном праве [4], в отличие от введения нового участника в дело (которое происходит в уголовном процессе при фактической «замене» потерпевшего), есть одно явное преимущество, которое особенно важно, когда речь идет о второстепенном участнике: оно не порождает необходимости начинать судебное производство по делу сначала.
Другой вопрос, с которым придется столкнуться в случае появления в уголовном процессе такого участника, как «третье лицо», – это прекращение его статуса, или освобождение от участия в процессе. Такой вопрос может возникать по разным, но достаточно частым причинам: 1) судьба имущества решена, оно возвращено во владение, пользование, распоряжение собственника; 2) собственник имущества – «третье лицо» – ходатайствует об исключении его из участников судопроизводства. Единственное, что хочется отметить в связи с этим, – подобная проблема в арбитражном и гражданском процессах является нерешенной до сих пор и на теоретическом, и на практическом уровнях, оставляя противоположные мнения и противоречивую судебную практику [5].
Заключение
Бесспорно, что лица, права которых затрагиваются в связи с принятием уголовно-процессуальных решений в отношении их имущества, должны приобретать собственный правовой статус. Полнота его аналогии с циви-листическим статусом третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, заслуживает отдельной дискуссии, однако сам факт ее применимости и информативной ценности не вызывает сомнений.
Список литературы «Третьи лица» в уголовном судопроизводстве: аналогии и перспективы
- Мурылева-Казак В.В. Процессуальные средства защиты имущественных прав лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 5.1.4. / В.В. Мурылева-Казак. - Москва, 2023. - 30 с. EDN: IQEEFM
- Мурылева-Казак В.В. Процессуальные средства защиты имущественных прав лиц, не являющихся участниками уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук: 5.1.4. / В.В. Мурылева-Казак. - Москва, 2023. - 221 с. EDN: IQEEFM
- Мусаткина А.И. О процессуальном правопреемстве отдельных участников уголовного судопроизводства / А.И. Мусаткина // Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". - 2022. - № 6. - С. 20-26. EDN: CPWAKV
- Нечаев А.И. Пределы процессуального правопреемства в гражданском судопроизводстве / А.И. Нечаев // Арбитражный и гражданский процесс. - 2012. - № 6. - С. 38-41. EDN: PFCYFD
- Гузий Д.А. Прекращение процессуального положения третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, в гражданском судопроизводстве: проблемы теории и практики / Д.А. Гузий // Арбитражный и гражданский процесс. - 2021. - № 10. - С. 6-10. EDN: RFNKAH